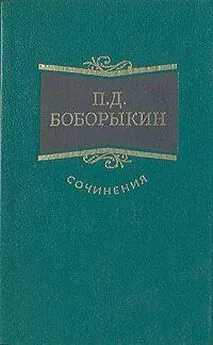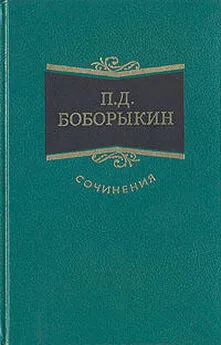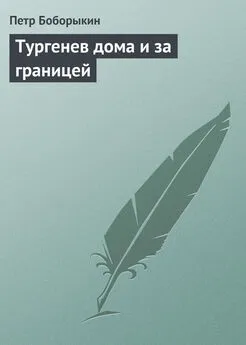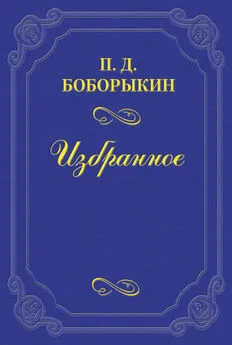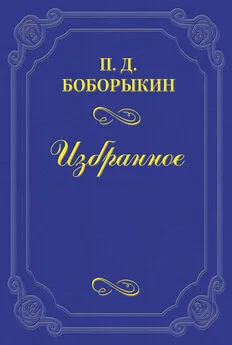Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания
- Название:За полвека. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0293-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания краткое содержание
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.
Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.
За полвека. Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, в том кризисе, который произошел во мне в Дерпте, наша беллетристика дала самый сильный импульс. Но это все-таки не то, что прямое влияние одного какого-нибудь писателя, своего или иностранного.
Даже английские романисты, как Диккенс и Теккерей, которыми у нас зачитывались (начиная с 40-х годов), не оставили на мне налета, когда я сделался романистом, ни по замыслам, ни по тону, ни по манере. Это легко проследить и фактически доказать.
Думаю, что Тургенев за целое десятилетие 1852–1862 годов был моим писателем более Гончарова, Григоровича (он мне одно время нравился), Достоевского и Писемского, который всегда меня сильно интересовал. Но опять-таки тургеневский склад повествования, его тон и приемы не изучались мною «нарочито», с определенным намерением достичь того же, более или менее.
Я еще не мечтал о повествовательной беллетристике даже и тогда, когда очутился опять в Петербурге по возвращении из деревни. Это случилось как бы неожиданно для меня самого.
Но влияние может быть и скрытое. Тургенев незадолго до смерти писал (кажется, П. И. Вейнбергу), что он никогда не любил Бальзака и почти совсем не читал его. А ведь это не помешало ему быть реальным писателем, действовать в области того романа, которому Бальзак еще с 30-х годов дал такое развитие.
Может быть, в романе «В путь-дорогу» найдутся некоторые ноты в тургеневском духе, и некоторые «тирады» я в 1884 году уничтожил, но вся эта вещь имеет свой пошиб.
Еще менее повлияли на меня и тогда и позднее — манера, тон и язык Гончарова или Достоевского. Автора «Мертвого дома» я стал читать как следует только в Петербурге и могу откровенно сказать, что весь пошиб его писательства меня не только не захватывал, но и не давал мне никакого чисто эстетического удовлетворения.
Моя писательская дорога сложилась так, что я, с первых же шагов и впоследствии, непрерывно и неизменно стоял один, без всяких руководителей, без какого-либо литературного патрона, без дружеских или кружковых влияний, ни в идейном, ни в чисто художественном смысле.
Когда я приехал в Петербург, мои обе пьесы были уже приняты и напечатаны. Писемский никогда не руководил мною, не давал мне никаких советов и указаний. Я не попал ни в какой тесный кружок сверстников, где бы кто-нибудь сделался моим не то что уже советником, а даже слушателем и читателем моих рукописей.
Не могу сказать, чтобы меня не замечали и не давали мне ходу. Но заниматься мною особенно было некому, и у меня в характере нашлось слишком много если не гордости или чрезмерного самолюбия, то просто чувства меры и такта, чтобы являться как бы «клиентом» какой-нибудь знаменитости, добиваться ее покровительства или читать ей свои вещи, чтобы получать от нее выгодные для себя советы и замечания.
Да если бы я и хотел этого (а такого желания у меня решительно не было), то мне и некогда было бы в такой короткий срок (от января до октября 1861 года) при тогдашней моей бойкой и разнообразной жизни устроить себе такой патронат.
Может показаться даже маловероятным, что я, написав несколько глав первой части, повез их к редактору «Библиотеки», предлагая ему роман к январской книжке 1862 года и не скрывая того, что в первый год могут быть готовы только две части. Тогда редакторы были куда покладливее и принимали большие вещи по одной части. Так я печатал в 1871–1873 годах и «Дельцы» у Некрасова. Но с конца 1873 года я в «Вестнике Европы» прошел в течение 30 лет другую школу, и ни одна моя вещь не попадала в редакцию иначе, как целиком, просмотренная и приготовленная к печати, хотя бы в ней было до 35 листов, как, например, в романе «Василий Теркин».
Замысел романа «В путь-дорогу» явился как бы непроизвольным желанием молодого писателя произвести себе «самоиспытание», перед тем как всецело отдать себя своему «призванию».
За два с лишком года, как я писал роман, он давал мне повод и возможность оценить всю свою житейскую и учебную выучку, видеть, куда я сам шел и непроизвольно и вполне сознательно. И вместе с этим передо мною самим развертывалась картина русской культурной жизни с эпохи «николаевщины» до новой эры.
То, что я взял героем молодого человека, рожденного и воспитанного в дворянской семье, но прошедшего все ступени ученья в общедоступных заведениях, в гимназии и в двух университетах, было, по-моему, чрезвычайно выгодно. Для культурной России того десятилетия — это было центральное течение.
В нашей беллетристике до конца XIX века роман «В путь-дорогу», по своей программе, бытописательному и интеллигентному содержанию, оставался единственным. Появились в разное время вещи из жизни нашей молодежи, но все это отрывочно, эпизодично.
Но таких «Годов ученья» не появлялось. Только Гарин (Михайловский) напечатал роман «Студенты»; но в нем действуют воспитанники инженерного института, а не университетские студенты. Истории же гимназиста и картины двух университетов — не имеется и до сих пор.
В какой степени «В путь-дорогу» автобиографический роман? Когда я вспоминал свое отрочество и юность, вплоть до вступления на писательское поприще, — я уже оговаривался на этот счет.
Весь быт в губернском городе, где родился, воспитывался и учился Телепнев, а потом в Казани и Дерпте, — все это взято из действительности. Лица — на две трети — также; начальство и учителя гимназии, профессора и товарищи — почти целиком.
Но Телепнева нельзя отождествлять с автором. У меня не было его романической истории в гимназии, ни романа с казанской барыней, и только дерптская влюбленность в молодую девушку дана жизнью. Все остальное создано моим воображением, не говоря уже о том, что я, студентом, не был богатым человеком, а жил на весьма скромное содержание и с 1856 года стал уже зарабатывать научными переводами.
Умственная и этическая эволюция Телепнева похожа и на мою, но не совпадает с нею. В нем последний кризис, по окончании курса в Дерпте, потянул его к земской работе, а во мне началась борьба между научной дорогой и писательством уже за два года до отъезда из Дерпта.
Как я сказал выше, редактор «Библиотеки» взял роман по нескольким главам, и он начал печататься с января 1862 года. Первые две части тянулись весь этот год. Я писал его по кускам в несколько глав, всю зиму и весну, до отъезда в Нижний и в деревню; продолжал работу и у себя на хуторе, продолжал ее опять и в Петербурге и довел до конца вторую часть. Но в январе 1863 года у меня еще не было почти ничего готово из третьей книги — как я называл тогда части моего романа.
Конечно, такая работа позднее меня самого бы не удовлетворяла. Так делалось по молодости и уверенности в своих силах. Не было достаточного спокойствия и постоянного досуга при той бойкой жизни, какую я вел в городе. В деревне я писал с большим «проникновением», что, вероятно, и отражалось на некоторых местах, где нужно было творческое настроение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: