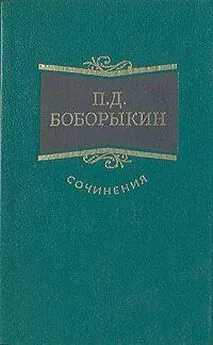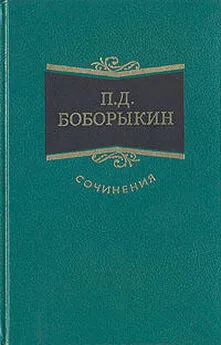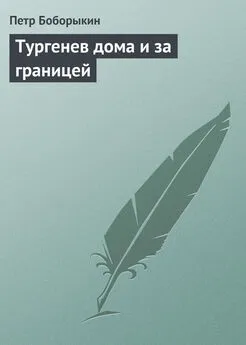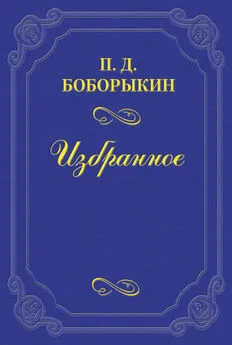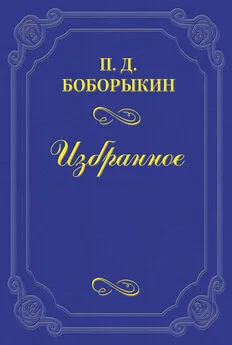Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания
- Название:За полвека. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0293-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания краткое содержание
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.
Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.
За полвека. Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У графа Салиаса принята была Писемским повесть. Его я встречал в конторе журнала еще до моего редакторства.
Он был тогда красивый юноша, студент, пострадавший за какую-то студенческую историю. Кажется, он так и не кончил курса из-за этого. Он жил в Петербурге, но часто гостил у своей родной сестры, бывшей замужем за Гурко, впоследствии фельдмаршалом, а тогда эскадронным или полковым командиром гусарского полка. Мать его проживала тогда за границей, в Париже, и сделалась моей постоянной сотрудницей по иностранной литературе.
Она печатала у меня изложение наделавшей тогда шуму политической сатиры Лабуле «Париж в Америке» и много других таких же извлечений.
Сын ее смотрел очень воспитанным, франтоватым молодым человеком, скорее либерального образа мыслей. В «Библиотеке» он не удержался и позднее стал более известен своими письмами из Испании в газете «Голос», прежде чем стал печатать в «Русском вестнике» своих «Пугачевцев».
Я его не встречал очень давно и раз обедал с ним, уже в 90-х годах, у издателя «Нивы» Маркса, когда тот пригласил на обед своих сотрудников — исключительно романистов (в их числе Григоровича), и нас оказалось семь человек.
Новым для журнала и для меня из молодых же писателей (но уже старше Салиаса) был Н. Лесков, который тогда печатался еще под псевдонимом «Стебницкий». Чуть ли не у меня он и стал подписываться своей подлинной фамилией.
Этот сотрудник сыграл в истории моего редакторства довольно видную роль и для журнала довольно злополучную, хотя и непреднамеренно. Он вскоре стал у меня печатать свой роман «Некуда», который всего более повредил журналу в глазах радикально настроенной журналистики и молодой публики.
Привел его ко мне Воскобойников или Щеглов, во всяком случае один из них. Он был автор повести, которая мне понравилась; и сам он показался мне человеком оригинальным, очень бывалым, наблюдательным, с хлестким, бытовым умом. Но сразу же я начал распознавать в его личности и разные несимпатичные черты характера. Человека с университетским образованием я в нем не чувствовал. Он совсем не был начитан по иностранным литературам, но отличался любознательностью по разным сферам русской письменности, знал хорошо провинцию, купечество, мир старообрядчества, о котором и стал писать у меня, и в этих, статьях соперничал с успехом с тогдашним специалистом по расколу П. И. Мельниковым.
Он много перед тем вращался в петербургском журнализме, работал и в газетах, вхож был во всякие кружки. Тогдашний нигилизм и разные курьезы, вроде опытов коммунистических общежитий, он знал не по рассказам. И отношение его было шутливое, но не особенно злобное. Никаких выходок недопустимого у меня обскурантизма и полицейской благонамеренности он не позволял себе.
Он только что тогда пожил в Париже (хотя по-французски, кажется, не говорил), где изучал тамошнюю русскую колонию, бывшую уже довольно значительной, после того как дешевые паспорта и выкупные свидетельства позволили очень многим «вояжировать»; да и курс наш стоял тогда прекрасный.
Я ему предложил записать свои парижские впечатления, и он выполнил эту работу бойко и занимательно. Русских парижан он разделил на два лагеря: «елисеевцы», то есть баре, селившиеся в Елисейских полях, и «латинцы», то есть молодежь и беднота Латинского квартала.
Нетрудно было оценить в нем очень полезного сотрудника и по части вот таких очерков, и как беллетриста.
С замыслом большого романа, названного им «Некуда», он стал меня знакомить и любил подробно рассказывать содержание отдельных глав. Я видел, что это будет широкая картина тогдашней «смуты», куда должна была войти и провинциальная жизнь, и Петербург радикальной молодежи, и даже польское восстание. Программа была для молодого редактора, искавшего интересных вкладов в свой журнал, очень заманчива.
В первой части романа, весьма обширной, не было еще ничего, что сделалось бы щекотливым в смысле либерального направления.
Тогда все редакторы — самые опытные, как, например, Некрасов, — не требовали от авторов, чтобы вся вещь была приготовлена к печати. Так и я стал печатать «Некуда», когда Лесков доставил мне несколько глав на одну, много на две книжки.
«Некуда» сыграло почти такую же роль в судьбе «Библиотеки», как фельетон Камня Виногорова (П. И. Вейнберга) о г-же Толмачевой в судьбе его журнала «Век», но с той разницей, что впечатление от романа накапливалось целый год и, весьма вероятно, повлияло уже на подписку 1865 года. Всего же больше повредило оно мне лично, не только как редактору, но и как писателю вообще, что продолжалось очень долго, по крайней мере до наступления 70-х годов.
Я не перечитывал «Некуда» после тех годов.
Смешно вспомнить, что тогда этот роман сразу возбудил недоверчивое чувство в цензуре. Даже мягкий де Роберти с каждой новой главой приходил все в большее смущение. Автор и я усиленно должны были хлопотать и отстаивать текст.
И кончилось это чем же?
Беспримерным эпизодом в истории русской журналистики, по крайней мере я лично ничего подобного никогда не слыхал.
Когда я увидал, что одному цензору не справиться с этим заподозренным — пока еще не радикальной публикой, а цензурным ведомством — романом, я попросил, чтобы ко мне на редакционную квартиру, кроме де Роберти, был отряжен еще какой-нибудь заслуженный цензор и чтобы чтение произошло совместно, в присутствии автора.
Так это и состоялось. В воскресное утро в моей маленькой голубой гостиной, где я обыкновенно принимал даже с рукописями, сидели мы несколько часов над этой работой. В антракты я предложил цензорам легкий завтрак.
С цензором Веселаго (впоследствии член совета) я тут только ближе познакомился.
Это был, как народ называет, «тертый калач», умный, речистый, веселый человек, бывший моряк, к литературе имевший некоторое «касательство» как автор статей по морским вопросам.
Он считался среди редакторов и авторов все-таки более покладистым, хотя очень большой поблажки от него трудно было ждать.
Сидели мы, сидели, слушали, судили, спорили. Кое-что удалось спасти; но многое погибло.
Никто бы не поверил из тех, кто возмущался романом, что его роды были так тягостны.
Веселаго держался благодушного тона и старался все уверить нас, что он вовсе не обскурант и не гасильник.
Когда за завтраком разговор сделался менее официальным, я ему сказал:
— Федосей Федорович! Цензорам история приготовила свое место. Напрасно вы так оправдываетесь! Он обратил это в шутку и весело воскликнул:
— Что поделаешь с Петром Дмитриевичем! Это у нас enfant terrible!
И через такие мытарства роман «Некуда» проходил до самого конца, и его печатание задерживалось часто только из-за цензуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: