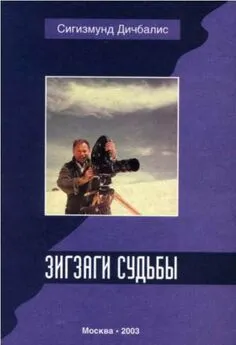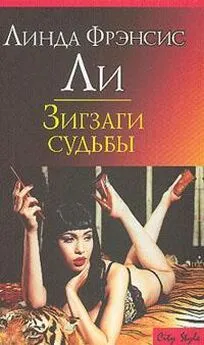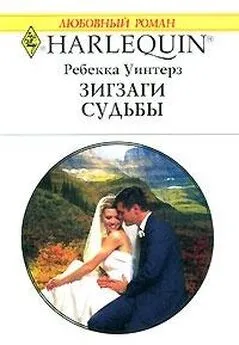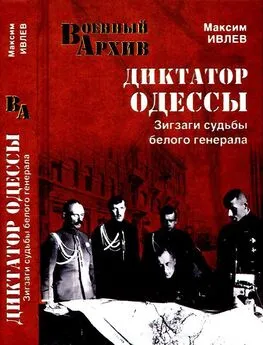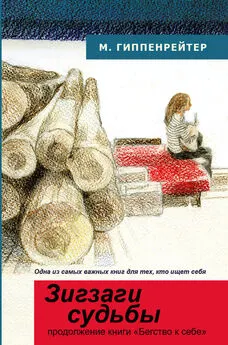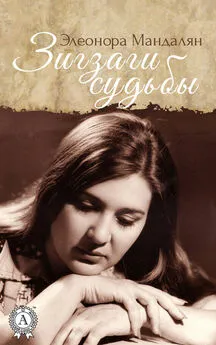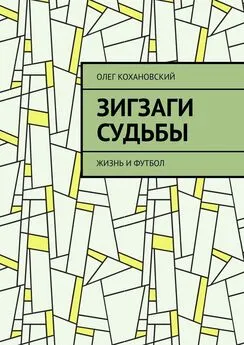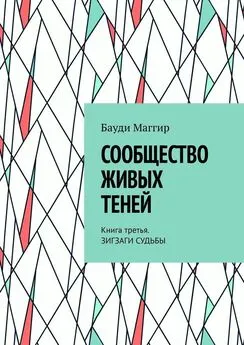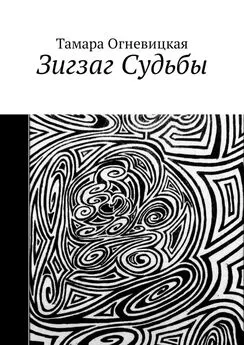Сигизмунд Дичбалис - Зигзаги судьбы
- Название:Зигзаги судьбы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ин-т полит, и воен. анализа, Центр по изучению Русского Зарубежья
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-93349-024-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сигизмунд Дичбалис - Зигзаги судьбы краткое содержание
18-го февраля 2011 года в госпитале, в Брисбене (Австралия) умер один из последних ветеранов Вооруженных Сил Комитета Освобождения Народов России, солдат разведдивизиона 1-й пехотной дивизии ВС КОНР, участник боёв на Одере и в Праге Сигизмунд Анатольевич Дичбалис (1922–2011). По его распоряжению, прах будет погребен в Санкт-Петербурге.
Сигизмунд Дичбалис (СД) оставил прекрасные воспоминания о своей невероятной жизни «Зигзаги судьбы».
Как вспоминал сам Сигизмунд Анатольевич, после событий в Праге командующий РОА, генерал Андрей Андреевич Власов сказал: кто уцелеет, пусть расскажет всю правду о Русском Освободительном Движении. Именно это Сигизмунд Анатольевич и делал всю свою жизнь.
Наверное, он был единственным бойцом РОА, который вел свой собственный сайт (http://roa2.narod.ru/), отвечая на вопросы посетителей о тех исторических событиях, очевидцем и участником которых ему довелось быть. Немало найдется людей, познакомившихся с ним через его «Гостевую книгу», которым он оказал подчас неоценимую помощь в сборе материалов по истории РОА.
Зигзаги судьбы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почему никто не напал на меня — с капитаном на багажнике — во время наших многочисленных поездок в штаб за приказами? Возил я Феофанова по непроходимым дорогам во всякую погоду, часто был вынужден просить помощи на хуторах, вооружённый одним только пистолетом, но за все мое пребывание на территории Эстонии не встретил, или точнее, не опознал ни одного партизана.
Наш отряд не потерял ни одного человека, за исключением пятерых раненых. Но эти ранения были получены в дни отсутствия Феофанова. Я привёз его на несколько дней в немецкий полевой госпиталь к зубному врачу, где и мне, кстати, наложили коронку. У него было что-то с дёснами, и ему была необходима лёгкая операция. Вот как раз в эти дни заместитель Феофанова получил срочный приказ выйти на охрану железнодорожного полотна в соседнем районе.
Стрелявшим из леса партизанским снайперам удалось нанести нам урон — пять человек были вынесены из-под обстрела на носилках. Когда о случившемся узнал Феофанов, он только покачал головой.
Приказы штаба дивизии, к которой мы были прикреплены, выполнялись чётко. Наши «ударные» группы, численностью от пары разведчиков и до 30–40 человек были предназначены для специальных заданий, например, для прочёсывания леса перед размещением там немецких частей.
Мы всегда соблюдали все правила боевой подготовки: будучи в охране, выставляли часовых, пускали осветительные ракеты при малейшем шорохе и однажды подстрелили кобылу, не знавшую пароля. Но до встречи с партизанами дело не доходило.
За все эти процедуры, иногда проводимые в присутствии офицеров Вермахта, отряд заслужил похвалу от немецкого командования, а Феофанову дали какое-то отличие. Загадочный нейтралитет и невмешательство отряда в стычки с партизанами (а их было хоть отбавляй в районе нашей группы) вызывали мой интерес до такой степени, что я не удержался и спросил капитана об этом. Его ответ отбил у меня всякий дальнейший интерес к этой теме:
— Это благодаря тебе, Саша. С тех пор, как ты присоединился к отряду, нам везёт без границ.
Это было сказано с такой усмешкой, что я и до сих пор не могу понять, «где была зарыта собака». В придачу, и Гришка меня однажды обидел. Когда я задал ему как товарищу в нашем «шпионаже» подобный вопрос, ответ его был кратким: «Много будешь знать, скоро состаришься».
Уже после войны, в конце 1946 года, Феофанов, узнав от кого-то, где я проживаю, встретился со мной в городе Эрланген, под Нюрнбергом, с целью вербовки меня на работу для американской разведки.
Разговор зашёл об отряде, и он пообещал рассказать все при следующей нашей встрече. Но мне не хотелось опять «залезать в петлю», и та встреча не состоялась [3] В № 4 за 1996 год журнала «Новый часовой» помещена статья о деятельности советской контрразведки на оккупированной территории Ленинградской области (см. Приложение 3). В докладной записке П.Н.Кубаткина указывается, что в составе антипартизанской группы под командованием капитана немецкой армии Феофанова А.А. находится «САША» (кличка), фамилия не установлена, из Ленинграда. Вот этот «Саша» я и есть. Привет и наилучшие пожелания! Сигизмунд Дичбалис (Саша Дубов).
.
ОТСТУПЛЕНИЕ
Вскоре отряд Феофанова снялся с насиженных мест, и, как цыганский табор, начал долгий путь на Запад.
На мой запрос, что мне делать, невидимка «Старшой» прислал приказ: следовать с отрядом до следующего извещения. Оно не пришло и до сих пор, но тогда на душе стало легче — я не один, я вместе с «нашими»!
До Радома — через Мемель, мимо Варшавы (ещё до Варшавского восстания), по просёлочным дорогам, со всевозможными приключениями — прошагали мы около 700 км. Наиболее запечатлелось в памяти одно происшествие, чуть ли не покончившего разом с моей деятельностью в отряде Феофанова.
Ещё на литовской земле, посланный на мотоцикле впереди отряда на разведку дороги (а отряд передвигался только по ночам, чтобы избежать бомбёжки с воздуха), я заехал в темноте в противотанковый ров. Деталей не помню. Меня нашли без сознания и с вывихнутой ключицей по ту сторону рва. «Цундап» валялся внизу между вкопанными рельсами, а рядом со мной, обращённый в сторону следующего за мной отряда, стоял на земле включенным на красный цвет мой сигнальный фонарик. Как я его включил, остается загадкой. Потом, когда Феофанов вручал мне во время парада в Мюнзинге медаль «За отличие в обязанностях солдата», узнал я от него детали моей аварии. Когда Феофанов подошёл ко мне, лежавшему на земле, я вскочил, отрапортовал, что я заехал в противотанковый ров и… упал опять без сознания.
Меня положили на один воз, мотоцикл — на другой, и утром, в каком-то селе, меня оставили дожидаться завершения ремонта передней вилки «Цундапа», а в помощь мне дали мальчишку — сына обозника, о котором я уже упоминал, Как только отряд с обозом скрылся вдали, механик-кузнец положил свои инструменты и скрылся. Вернувшись под вечер, он заявил нам по-немецки, что мотоцикл будет готов завтра утром, и отвёл нас двоих к стоявшей на окраине хутора избе, где, поговорив о чем-то с хозяйкой-старушкой, оставил нас под её опекой.
Поделившись с хозяйкой и её внучкой нашим запасом провианта и приняв её приглашение откушать свежесваренной картошки с кислым молоком, мы отужинали и после безуспешных попыток поговорить с упорно молчавшей старухой, мы начали приготавливаться к ночлегу.
Бабушка показала нам единственную комнату, в которой стояла кровать с перинами, в которой уже лежала её внучка лет пятнадцати. Кровать была широченная, и бабушка знаками указала, что места хватит для всех.
Я всё ещё был в разодранной при падении форме, мой напарник-мальчишка был не в лучшем состоянии, и мы решили, что белоснежная постель не для нас. Мы улеглись на полу, сняв с постели только толстое покрывало, а внучка, думая, что это из-за неё мы не хотим спать в постели, ушла к бабушке в кухню. Уснули мы, не раздеваясь, с нашими мешками под головой.
Сон был лёгким. Ранним утром, когда было ещё темно, мы услышали возбужденный разговор в кухне. Нам было слышно, как старушка уговаривала кого-то по-литовски, а ей возражали мужские голоса. Я только успел толкнуть локтем лежавшего рядом парнишку и вынуть пистолет из кобуры, как дверь стала медленно приоткрываться, и автоматная очередь прошила пустую кровать вдоль и поперёк. В следующий момент мы услышали слова: «Феофанов… Феофанов…», проклятия на литовском языке, и топот уходящих из избы ночных посетителей.
С воем и причитаниями вошла наша хозяйка, держа свечу и глядя на расстрелянную кровать. То ли с ужасом, то ли с радостью, не веря своим глазам, смотрела она на двух ночлежников встающих с пола, полуживых от страха, но живых и даже не раненных.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: