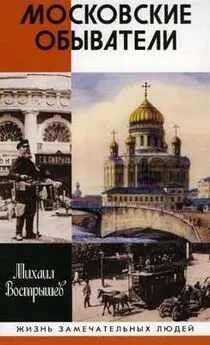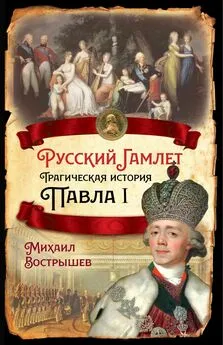Михаил Вострышев - Московские обыватели
- Название:Московские обыватели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02579-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вострышев - Московские обыватели краткое содержание
В книге — жизнеописания московских жителей, прославившихся своей ученостью, чудачествами, полезными делами и благими намерениями. Это новое, значительно дополненное издание книги — верный помощник тому, кто хочет глубже познать историю России и ее древней столицы, ибо через занимательные документальные рассказы о москвичах XVIII и XIX веков — врачах, иконописцах, фабрикантах, генералах, педагогах, юродивых и шутах — во всей полноте и живописности предстанет ее облик. О многих персонажах современный читатель даже не подозревает, так как о них за последние восемьдесят лет не написано ни строчки.
Московские обыватели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но легче всего избавиться от упреков, что Чижов, как и другие славянофилы, хочет повернуть страну в эпоху летописца Нестора, перечислив его полезные деяния. Конечно, это всего лишь несколько фактов, ведь серьезно жизнеописанием этого замечательного русского человека еще никто не занимался.
Отказался еще в юных годах от родового имения в пользу трех сестер, решив добывать средства к жизни исключительно собственной работой.
В течение нескольких лет работал в библиотеках Венеции и Ватикана над четырехтомной историей Венецианской республики, представлявшейся ему «зародышем новой истории, звеном, соединяющим средневековое человечество с человечеством предреволюционным».
В Риме близко сошелся с художником А. А. Ивановым и выхлопотал ему пособие для завершения картины «Явление Христа народу».
Перевез из России в Истрию церковную утварь для бедного православного храма сербов, за что чуть не был арестован австрийскими стражниками, а по возвращении в Петербург был посажен в Петропавловскую крепость. (На допросе его спросили: «Для чего вы носите бороду?» — «Это доставляло мне большое удобство при моей очень малой заботливости о внешности. — И добавил: — Борода моя дала мне много способов прямее и лучше смотреть на ход вещей, потому что все были со мною запросто, мужики рассказывали все подробности их быта и их промышленности, что меня очень занимало».)
Арендовал в долг под Киевом брошенную плантацию тутовых деревьев и за пять лет превратил ее в образцовую, занимаясь разведением шелковичных червей. («Стоит сделать один шаг к изучению природы, — изумлялся Чижов, — и ничтожный простой шелковичный червь вдребезги разбивает гордость нашего ума».)
Построил железную дорогу от Москвы до Вологды. Ему же Россия обязана железной дорогой от Москвы до Курска. Собирался также проложить рельсы Московской окружной дороги, но не нашел понимания у чиновников.
Создал Московское железнодорожное училище имени А. И. Дельвига. («Ни с кем я не сходился так скоро, как с Чижовым, и ни к кому не питал такой дружбы», — вспоминал начальник управления железными дорогами России Андрей Иванович Дельвиг.)
Вместе с А. И. Кошелевым учредил при Московской Думе общества водопроводов и газового освещения.
Основал при помощи А. П. Шипова Общество для содействия русской промышленности и торговле, стал крупнейшим банковским деятелем Москвы.
Организовал Товарищество Архангельске-Мурманского срочного пароходства по Белому морю и Северному Ледовитому океану, чтобы оживить российский северный край.
Был деятельным членом Славянского благотворительного общества.
Профинансировал три первых посмертных издания Н. В. Гоголя, с которым подружился в последние годы жизни писателя. («После Италии мы встретились с ним в 1848 году в Киеве, и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя».)
Никогда не забывал своих товарищей, хоть и не сходился с ними взглядами на жизнь. Так, уже в старости Чижов не поленился съездить в Ирландию, навестить захандрившего друга юности В. С. Печорина, католического монаха, ненавидевшего Россию.
Основал и редактировал лучший журнал о новинках отечественной и зарубежной промышленности. («Затеял я в Москве дело — издание «Вестника промышленности». Опять я сбился с пути — прочь история искусств, принимайся за политическую экономию, за торговлю и промышленность. И то сказать, это вопрос дня, это настоящий путь к поднятию низких слоев народа. Здесь, по моему предположению, купцы должны выйти на свет общественными деятелями».)
Был спартанцем в быту. («Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя».) Если и тратился на личные нужды, то главным образом на книги, которые завещал Румянцевскому музею. Большинство раритетов этой четырехтысячной коллекции были единственными экземплярами крупнейшей московской библиотеки.
Все свои акции железнодорожных компаний завещал родной Костроме и четырем городам ее губернии для устройства Высшего технического и ремесленных училищ.
Наживать миллионы и еще миллионы стало символом конца нашего XX столетия. Но это еще не заслуга. Заслуга — верно распорядиться своими капиталами. А на это способны, увы, немногие. Оттого тем ценнее жизнь людей, подобных Чижову.
«Смерть была мгновенной, — писал о последнем дне Чижова Иван Аксаков. — Я видел его через полчаса после смерти. Он сидел в креслах мертвый, с выражением какой-то мужественной мысли и бесстрашия на челе, не как раб ленивый и лукавый, а как раб верный и добрый, много потрудившийся, много любивший — муж сильного духа и деятельного сердца».
Летописец московских нравов. Очеркист Петр Федорович Вистенгоф (1811–1855)
Читателям сейчас ничего не говорят имена авторов: Л. П. Башуцкий, В. В. Толбин, Ф. К. Дершау, П. Вистенгоф…
Из предисловия В. И. Кулешова к сборнику «Русский очерк»Давайте попутешествуем по Москве далекого 1842 года. Проснемся перед рассветом, облачимся в панталоны со штрипками, мягкие сапоги, туго накрахмаленную манишку, черный фрак. Поверх же, если снег — енотовую шубу, если дождь — камлотовую шинель… Или нет, чтобы не отставать от стремительно меняющейся моды, фрак выберем оливкового цвета, а шинель заменим длинной бекешей. Теперь осторожно, чтобы не разбудить соседей, спустимся по скрипучей деревянной лестнице, смело минуем двор, огромную лужу и очутимся на еще тихой, но уже отнюдь не пустынной московской улице.
С наступлением раннего утра в Москве, когда она еще спит глубоким сном, медленно тянутся по улицам возы с дровами; подмосковные мужики везут на рынки овощи и молоко, и первая деятельность проявляется в калашнях, откуда отправляются на больших длинных лотках в симметрическом порядке укладенные калачи и булки; спустя немного времени появляются на улицах кухарки, потом повара с кульками, понемногу выползают калиберные извозчики, а зимой санные ваньки, которые нарочно выезжают для поваров; дворники, лениво потягиваясь, выходят с метлами и тачками мести мостовую, водовозы на клячах тянутся к фонтанам, нищие пробираются к заутрене, кучера ведут лошадей в кузни, обычный пьяница направляет путь в кабак; девушка в салопе возвращается с ночлега из гостей, овощной купец отворяет лавку и выставляет в дверях кадки с морковью и репой; выбегают мастеровые мальчики с посылками от хозяев, хожалый навещает будки.
Но нам сегодня некуда спешить, мы садимся на завалинку и наблюдаем нравы. Они зависят во многом от того, в какой части города стоит наш дом. Если в Лефортово, то вокруг будет сновать фабричный, большей частью молодой и бессемейный народ, а деревенский пейзаж подпортят трубы ткацких мануфактур и кособокие кабаки низшего разряда. Если на Пречистенке, вдали от торговой и заводской Москвы, в так называемой дворянской части города, то здесь будут радовать глаз и чисто выметенные мостовые, и аккуратные желтые домики с колоннами на фасаде, и опрятно одетая публика. По другую же сторону Москвы-реки тон задает купеческое племя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: