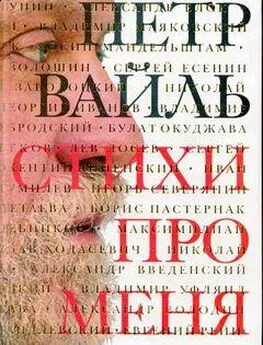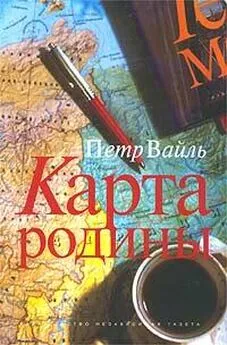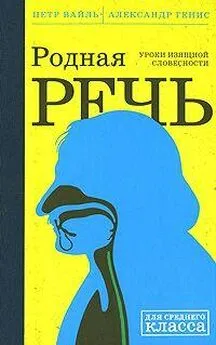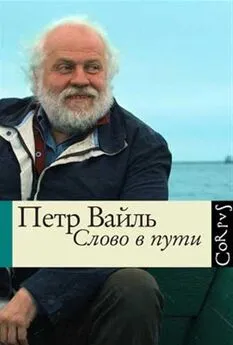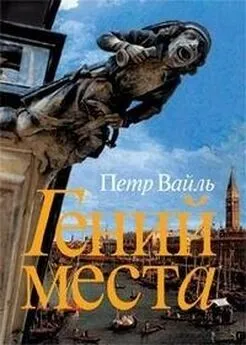Петр Вайль - Стихи про меня
- Название:Стихи про меня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Колибри
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98720-031-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Вайль - Стихи про меня краткое содержание
Суть жанра, в котором написана эта книга, определить непросто. Автор выстроил события своей жизни — и существенные, и на вид незначительные, а на поверку оказавшиеся самыми важными, — по русским стихам XX века: тем, которые когда-то оказали и продолжают оказывать на него влияние, "становятся участниками драматических или комических жизненных эпизодов, поражают, радуют, учат". То есть обращаются, по словам автора, к нему напрямую. Отсюда и вынесенный в заглавие книги принцип составления этой удивительной антологии: "Стихи про меня".
Стихи про меня - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теперь взглянем на растительность вокруг "Тоски по родине". В том же 34-м году написаны и "Деревья", и "Куст".
В первом случае — образы тревожные, враждебные: "Деревья с пугливым наклоном", "Деревья бросаются в окна", "Деревья, как взломщики", "Деревья, как смертники". (Да и раньше еще: "У деревьев — жесты трагедий", "У деревьев — жесты надгробий...")
В другом случае — воплощение спокойствия и гармонии: "Полная чаша куста", "А мне от куста —тишины: / Той — между молчаньем и речью", "Такой от куста — тишины, / Полнее не выразишь: полной".
Суммируем. Дерево + рябина, то есть существующее в действительности дерево рябина — удвоение российского негатива. Куст + рябина — попытка уравновешивания, выравнивания эмоций, но куст рябина — то, чего в действительности нет.
Нет такой рябины, но тогда и противопоставления последних двух строк всему предыдущему стихотворению — нет.
Лидия Чуковская рассказывает, что за четыре дня до смерти, в Чистополе, Цветаева читала "Тоску по родине" без последней строфы, оборвав стихотворение. Чуковская дает привычно резонное объяснение: в отчаянии и тупике Цветаева не хотела произносить последние две строки, в которых виден просвет. Но если не такой уж это просвет? Если изначально речь шла о том, чего и быть не может?
"Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь", — пишет Бродский в эссе о Цветаевой. А если не закончить стихотворение? Значит ли это попробовать остановить время, попытаться отсрочить приход неизбежного? Может, потому Цветаева в Чистополе и не дочитала "Тоску по родине"?
Стихотворение в целом, до требующих особого толкования последних строк, — манифест самостояния. Мгновенно запоминающиеся емкие и точные образы временем превращены в цитаты-формулы, что случается только с великими стихами. Горькие и гордые слова, очень спокойные в своей беспросветности: "Мне совершенно все равно — / Где совершенно одинокой / Быть..." Через несколько лет такой мотив вовсю зазвучал в литературе у Камю и Сартра, но через несколько лет. Этих писателей подтолкнула война, как прежде на религиозных экзистенциалистов повлияла Первая мировая. Цветаевой не нужны были войны, чтобы препарировать одиночество, лаконично и четко провести чистый лабораторный срез: без признаков, мет и дат — одна экзистенциальность, она же душа.
С учетом же всех трех видов обстоятельств месга, времени и образа действия — в "Тоске по родине" доведена до крайнего предела традиционная для эмигрантской поэзии, прозы, публицистики тема: Россия в нас, Россию мы унесли с собой.
В письмах Цветаевой этот известный тезис варьируется постоянно: "Если есть тоска по родине — то только по безмерности мест...", "Не Россией одной жив человек... Россия во мне, не я в России...".
Елизавета Тараховская приводит ее слова в разговоре о ностальгии: "Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном". В 1925 году Цветаева отвечает на анкету журнала "Своими путями": "Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови". И дальше — уже конкретно о себе: "Лирикам же, эпикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальнозорким, лучше видеть Россию издалека — всю — от Князя Игоря до Ленина, — чем кипящей в сомнительном и слепящем котле настоящего. Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать (дышать)".
Это общеэмигрантское самосознание у Цветаевой усугубляется крайним поэтическим индивидуализмом и бытовой эксцентрикой, что выделяло ее в любой среде, отчуждало. В ней было всё необычно: манера речи, неожиданные вспышки приязни-неприязни, домашняя обстановка (мемуаристы с изумлением пишут об огромном мусорном баке посреди жилой комнаты), обиходная несовременность (боялась автомашин, эскалаторов метро, не пользовалась лифтом, не любила и толком не умела обращаться с телефоном), внешность (регулярно брила голову, несмотря на протесты мужа).
Федор Степун, вспоминая Цветаеву доэмигрантских лет, пишет: "Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и мало приятным законам". Эмиграция (и это ее основное свойство, уверенно скажу, опираясь на собственный многолетний опыт) лишь проявляет и усиливает все специфические черты, не привнося ничего принципиально нового. Цветаева всегда и всюду существовала сама по себе, одна, в своей собственной, персонально цветаевской стране.
Еще одно важное обстоятельство: за границей она способна была сохранять такую же, как в России, независимость и обособленность не только в силу характера, но и по блестящему знанию языков — что, вопреки распространенному представлению, вовсе не было правилом в русском зарубежье. Цветаева переводила на французский Пушкина и Лермонтова, вела на равных любовно-интеллектуальную переписку с выдающимся немецким поэтом Рильке, владея обоими языками почти как русским. Она принадлежала к числу тех немногих, кому действительно могла быть безразлична государственно-языковая принадлежность "глотателя газетных тонн".
А если и не вполне безразлична, то остро чувствительную к фонетике Цветаеву русский "глотатель" раздражал, конечно, сильнее. Тем более тот русский — советский. Нам трудно сейчас представить, как воспринимали зарубежные литераторы новое название страны: мы с ним и в нем выросли, а они ощущали как Каинову печать, гвоздь в гроб. Была "Россия" — обычное имя, как "Англия" или "Франция", — а стало неведомо что. В самом деле, аббревиатурой до тех пор называлась только Америка, но она и есть Новый Свет, нечто, возникшее на голом месте. Российское переименование оскорбляло слух. Еще в 20-м Цветаева горевала: "Так мое сердце над Рэ-сэ-фэ- сэром / Скрежещет...". Рэ-сэ-фэ-сэр ушел, пришло не лучше, даже хуже, потому что еще и без национальной, и без географической привязки, без места вовсе, не говоря о звучании: " России (звука) нет, есть буквы: СССР, — не могу же я ехать в глухое, без гласных, в свистящую гущу. Не шучу, от одной мысли душно. Кроме того, меня в Россию не пустят: буквы не раздвинутся".
После того как в июне 31-го Сергей Эфрон подал прошение о предоставлении ему советского гражданства, цветаевские слова о родине стали меняться. Заметно, как она все отчетливее осознает опасное приближение новой России к себе — точнее, к своей семье. Скрежещущие и свистящие буквы раздвигаются: для мужа и дочери, твердо настроенных на возвращение, для сына, которого тоже придется отпустить. При этом в "Стихах к сыну" (1932), рядом с призывом к мальчику уехать в СССР — понимание того, что для нее самой страна остается космически далекой: "Нас родина не позовет! / Езжай, мой сын, домой — вперед — / ...В на-Марс страну! В без-нас страну!"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: