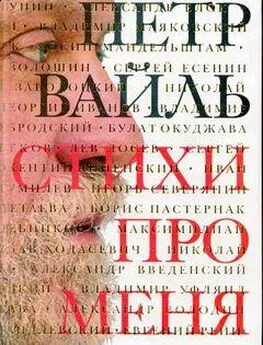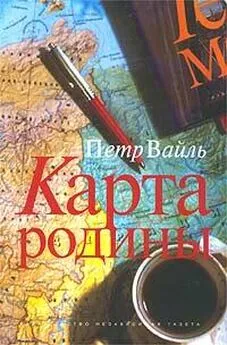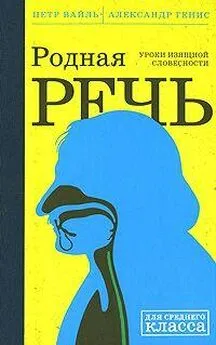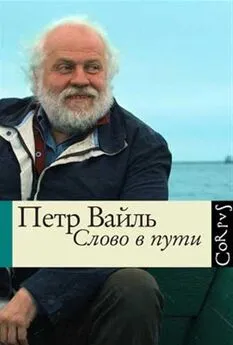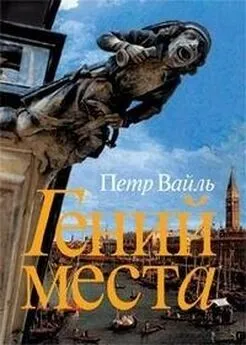Петр Вайль - Стихи про меня
- Название:Стихи про меня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Колибри
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98720-031-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Вайль - Стихи про меня краткое содержание
Суть жанра, в котором написана эта книга, определить непросто. Автор выстроил события своей жизни — и существенные, и на вид незначительные, а на поверку оказавшиеся самыми важными, — по русским стихам XX века: тем, которые когда-то оказали и продолжают оказывать на него влияние, "становятся участниками драматических или комических жизненных эпизодов, поражают, радуют, учат". То есть обращаются, по словам автора, к нему напрямую. Отсюда и вынесенный в заглавие книги принцип составления этой удивительной антологии: "Стихи про меня".
Стихи про меня - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Может быть, как раз потому, что смерть именно окончательна, что ничего исправить нельзя, что не дано нам знать, как умрем, а без этого — нельзя понять, как мы жили.
Античное отношение к жизни. Иначе что это за призыв — с мировоззренческой точки зрения — держать равнение на смерть? А на что же еще? Есть варианты? Для древних смерть — та точка, которая завершает фразу жизни и, согласно правилам грамматики бытия, является ее неотъемлемой составной частью. Об этом — финальные строки софокловского "Царя Эдипа". Об этом — подробные сцены умирания у Гомера: последние мгновения способны зачеркнуть все достоинства (или наоборот — все бесславие) многолетнего пути. Пока человек не умер, нельзя окончательно сказать, как он жил.
Введенский знал, что говорил: "смерти час напрасный". Сведения о его смерти — приблизительны.
Неизвестна точная дата: по официальной, то есть недостоверной, бумаге — 20 декабря 1941 года.
Неизвестна непосредственная причина — то ли дизентерия в арестантском вагоне, то ли пуля конвоя.
Неизвестно конкретное место — где-то на жeлезной дороге между Воронежем и Казанью. На насыпи длиной 1148 километров.
ОТЕЛЬ "СЕНТ-ДЖОРОДЖ"
Георгий Иванов 1894-1958
Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
"Сегодня ты, а завтра я!"
Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком —
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.
Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!
[1949]
Вечером 5 января 1978 года я прилетел в Нью-Йорк. Все шло по стандартной процедуре, предусмотренной для эмигранта из СССР, автоматически получавшего статус беженца. Встретили в аэропорту, поселили в отеле, вручили какую-то сумму на насущные расходы, назначили на послезавтра беседу с социальным работником. Утром спустился вниз и выяснил, что в воскресенье в штате Нью-Йорк спиртное не продается, даже пиво только с полудня, когда заканчиваются службы в церквах. Это озадачило на долгие будущие годы, а тогда сильно огорчило: привычное средство требовалось особенно остро, чтобы избавиться от непривычной растерянности, почти паники. Впервые не представлял, что и как делать. Да, оставленное позади мне не нравилось, но оно мне было досконально знакомо, я знал и понимал ту жизнь, которая исчезла в одночасье. Вдруг абсолютно ничего. Новая уже надвинулась, но я ее не различал — совсем. Невероятно до смешного.
Погуляв до двенадцати, приобрел связку из шести пинтовых банок пива, обогатившись выражением sixpack, купил яиц, помидоров, ветчины (в номере была плитка и утварь) и пошел в отель. В лифте встретил попутчика из вчерашнего самолета, он страшно обрадовался и стал просить пятерку до завтра, объясняя, что купил утром двадцатифунтовый мешок риса, галлон растительного масла и галлон сока, мандаринов ящик, "в два приема нес, представляешь" — вот и остался без денег. Я спросил, зачем такие стратегические запасы в первый день. Он хлопотливо заговорил: "Так выгодно же очень! Понимаешь, фунт риса стоит... Если пятифунтовый пакет берешь... А если двадцать... Теперь масло..." — "У тебя что, семья большая?" — "Почему большая? Я один. А ты рис не уважаешь? Я уважаю, я с Чирчика, там вырос. Так пятерку дашь?" Прощаясь, сказал: "Ты заходи, я тебе объясню, как тут чего, я уже разобрался. Как говорится, на всякую хитрую найдем с винтом".
Попив "Будвайзера", я пошел бродить по отелю. В огромной, занимающей целый квартал в Бруклин-Хайтс гостинице "Сент-Джордж" можно было провести долгие годы, не выходя. Некоторые так и делали. Разговорчивый старик из соседнего номера заметно разволновался, узнав, что в понедельник я самостоятельно отправлюсь в город, наставлял быть осторожнее в "этом Нью-Йорке", как он называл прекрасно видимый из окна Манхэттен. "А вы там не бываете?" — спросил я. Старик только махнул рукой.
Из вестибюльного закутка меня окликнул чистильщик обуви, опытным глазом вычислив новичка. Анзор жил в Штатах уже три года, быстро надавал полезных советов, сводящихся все к той же нарезке винта, и спросил, чем я занимаюсь. Не по скрытности, а из-за неопределенности будущего я что-то изобразил в воздухе рукой: мол, пишу. Анзор оживился: "Напиши про меня. У меня такое кино! Только как груши возил в Ланчхути расскажу — все умрут. Все тебе расскажу, а ты напиши". Я мялся, а Анзор уже принял решение: "Слушай, у меня смена кончается сейчас, пойдем тут рядом, посидим, поговорим, шашлык-машлык, вино-мино, такое место знаю". Жизнь приобретала внятные очертания. Анзор складывал щетки, оборачиваясь на меня, словно присматривал, чтоб не убежал: "Только как груши в Ланчхути возил! Только как груши!"
В 78-м я почти совсем не знал стихов Георгия Иванова. Из всего стихотворения, написанного в год моего рождения, известны мне были только последние пять строк, которые я и твердил про себя в те январские дни. Позже узнал первые восемь — трагических, смертных, отчего концовка, имевшая в отдельности несколько иронический оттенок, превратилась в то, чем она и является — мужественным признанием безнадежности смены миров.
Какая же гигантская разница у нас в масштабах, характере, степени насильственности перемен. Общее разве что — стремительность происшедшего. Но какая мелочь твои длившиеся неделю переживания от необходимости впервые отвечать самому за себя — на фоне того чувства неизбывного горя, которое Георгий Иванов пронес до конца.
Самые незаполошные из них — а Иванов был из самых-самых — понимали случившееся как полный крах, как позорное поражение. "Не изнемог в бою Орел Двуглавый, / А жутко, унизительно издох". То же у Иванова в прозе: "И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни "логики истории". История вдребезги, ударом красноармейского сапога разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено".
Не стоит придираться к "справедливости" расстановки: на фоне того, что пришло в России на смену, любая иерархия казалась благом. И тем горше, тем непростительнее утрата. У Мандельштама в "Феодосии" — образ "больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла Добровольческой армии". Адамович: "Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг".
Но никого, пожалуй, так навязчиво не тревожила именно внезапность события, как Георгия Иванова. Есть знаменитое розановское "Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три...", однако Розанов умер в 19-м, не успев как следует удивиться. Иванов изумлялся всю жизнь.
Это потрясение проходит сквозь все его стихи с 30-х по 50-е. "Так в страшный час над Черным морем / Россия рухнула во тьму"; "Ни надежды. Ни расчета. / Просто - ничего"; "Видим вдруг — неизбежность пришла"; "И всего верней — проститься, / Дорогие господа, / С этим миром навсегда"; "И нет ни России, ни мира, / И нет ни любви, ни обид".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: