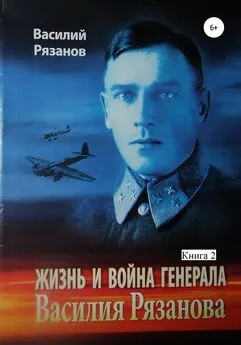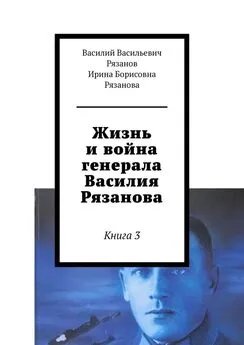Евгений Анисимов - Генерал Багратион. Жизнь и война
- Название:Генерал Багратион. Жизнь и война
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03282-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Анисимов - Генерал Багратион. Жизнь и война краткое содержание
В пантеоне выдающихся полководцев нашего Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно из почетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый ученик Суворова, он был участником всех крупных войн своего времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны, полученной в Бородинском сражении, так и не пережив оставление Москвы. Его биография — это прежде всего история войн, которые вела Россия в конце XVIII — начале XIX века. Между тем личная, частная жизнь П. И. Багратиона известна совсем не так хорошо. Мы не знаем точно, когда он родился, как начал военную службу, которой отдал без остатка всю свою жизнь; немало загадок и в истории его взаимоотношений с царской семьей, особенно с великой княжной Екатериной Павловной, хотя именно здесь, как считают, таятся причины опалы, постигшей Багратиона незадолго до рокового 1812 года. О вехах жизни П. И. Багратиона — полководца и человека, а также об истории России его времени рассказывает в своей новой книге известный российский историк, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей» Евгений Викторович Анисимов.
Генерал Багратион. Жизнь и война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для истории можно и повторить. Как писал адъютант Наполеона граф Сегюр, уход русских был полной неожиданностью для императора, считавшего, что проявленное накануне необыкновенное упорство русских — верное свидетельство того, что они готовятся наутро дать ему сражение. Накануне вечером он, по словам Сегюра, сказал свои знаменитые слова: «Завтра, в пять часов, взойдет солнце Аустерлица!» Впрочем, если верный оруженосец императора ничего не напутал, ту же фразу Наполеон, согласно многим другим источникам, произнес также и накануне Бородинского сражения. Это даже попало в тогдашнюю прессу. Выходившая в Вильно польская газета писала 17 сентября: «На рассвете 7-го числа император, окруженный маршалами, поднялся на холм, где находился редут, взятый нами еще 5-го числа. В половине шестого на ясном, безоблачном небе показалось чудное, светлое солнце. “Это солнце Аустерлица”, — сказал император. Вся армия приняла эти слова за счастливое предзнаменование…» По другой версии, Наполеон, стоя у Шевардинского редута, якобы сказал: «Сегодня немного холодно, но всходит прекрасное солнце. Это солнце Аустерлица»78.
Но тогда, под Витебском, утреннее солнце было обыкновенным. Наполеону донесли, что лагерь русских пуст. Тот решил сам убедиться в этом и поехал посмотреть лагерь, оставленный русской армией. «С каждым шагом, — писал Сегюр, — его иллюзия исчезала, и вскоре он очутился посреди лагеря, покинутого Барклаем. Все в этом лагере указывало на знание военного искусства: удачный выбор места, симметрия всех его частей, точное и исключительное понимание назначения каждой части и, как результат, порядок и чистота. Притом ничего не было забыто. Ни одно орудие, ни один предмет и вообще никакие следы не указывали вне этого лагеря, какой путь избрали русские во время своего внезапного ночного выступления. В их поражении было как будто больше порядка, чем в нашей победе! Побежденные, убегая от нас, они давали нам урок! Но победители никогда не извлекают пользу от таких уроков — может быть, потому, что в счастье они относятся к ним с пренебрежением и ждут несчастья, чтобы исправиться. Русский солдат, найденный спящим под кустом, — вот единственный результат этого дня, который должен был решить все! Мы вступили в Витебск, оказавшийся таким же покинутым, как и русский лагерь»79. Попутно заметим, справедливости ради, что места для биваков русской армии выбирал знаменитый Карл фон Клаузевиц — большой знаток полевой науки110.
Наполеон вступил в Витебск 16 июля. На некоторое время он даже «потерял» русскую армию — два дня было неизвестно, в каком направлении она ушла. И только 18 июля он узнал, что Барклай уходит к Смоленску. Сработало то, что позже будет названо «скифской тактикой» отступления. Барклай даже с гордостью писал, что его армия «в военном смысле может тщеславиться, производив оное (отступление. — т Е. А.) в виду превосходнейшего неприятеля, удерживаемого малым авангардом, в начальстве графа Палена состоящим»81. Наполеон, подобно Даву, упустил русскую армию. Сам Барклай в донесении 17 августа на имя М.И.Кутузова, приехавшего сменить его на посту главнокомандующего, признал это: «Великое для меня щастие, что неприятель не воспользовался выгодами своими и остался после сражения под Могилевым спокойным зрителем, не предпринимая ничего на Смоленск»82.
Другой свидетель поспешного отступления 1-й армии, граф Армфельд, писал о нем как о необыкновенной удаче, рискованном предприятии: «Мы счастливо добрались до Смоленска. Отступление из Витебска было совершено под командой молодого генерала Палена, начальствовавшего арьергардом, этот случай останется всегда чудом в военной истории. Бонапарт вел сам корпуса Мюрата, Богарне и маршала Нея, но, несмотря на это, русская армия отступила прямо перед его носом через громадное поле, верст в 25 длиной, французской кавалерии было бы более чем легко раздавить нас в этот момент. Я никогда в жизни не испытывал такой боязни, как в этот день, быв убежден, что мы пропали, все мои надежды были возложены на чудную казачью лошадь, которую я получил от атамана»81.
Печальная судьба раненых и пленных. Другой стороной «скифской тактики» стало то, что русские войска бросили на милость победителей около четырехсот раненых солдат, оставленных на поле сражения и в опустевшем Витебске. Такое отношение к раненым было обычным по тем временам. Известно, что вывезенные с Бородинского поля 22 тысячи русских солдат были оставлены на произвол судьбы в брошенной Москве и в большинстве своем сгорели в страшном московском пожаре1"1. Не менее 10 тысяч раненых русских солдат было брошено в Можайске — ближайшем от Бородина городе. М. И. Кутузов сразу после отступления армии с поля сражения писал Ф. В. Ростопчину: «Раненые и убитые воины остались на поле сражения без всякого призрения» ю. Согласно рапорту полковника А. И. Астафьева, в январе — апреле 1813 года на поле Бородина, в Можайске и уезде были сожжены 58 521 труп и не менее 8234 «падали» — трупов лошадей. И все равно до конца XX века в окрестностях Можайска постоянно находили кости павших. Как писал один из местных жителей, «когда при строительстве родильного дома в Можайске очередной раз наткнулись на многочисленные кости, археолога, чтобы установить время захоронения, не вызывали, кости даже не были собраны — их топтали прохожие и строительные рабочие»80.
Наверное, так же было и в десятках других городов, в том числе и в Витебске. Опустевший город, жители которого бежали за Днепр, после отхода русской армии представлял собой тягостное зрелище. И. Т. Радожицкий, раненный в бою и оставленный в городе, писал, что в Витебске была «ужасная тишина, прерываемая только стоном раненых, которые в разном положении валялись на мостовой»87. По словам Сегюра, «все эти несчастные оставались три дня без всякой помощи, никому не ведомые, сваленные в кучу, умирающие и мертвые, среди ужасного смрада разложения. Их наконец подобрали и присоединили к нашим раненым, которых тоже было семьсот человек, столько же, сколько и русских. Наши хирурги употребляли даже свои рубашки на перевязку раненых, так как белья уже не хватаю. Когда же раны этих несчастных стали заживать, и людям нужно было только питание, чтобы выздороветь, то и его не хватало, и раненые погибали от голода. Французы, русские — все одинаково гибли»88. О том же писал и хирург Ларей: «Они лежали на гряз ной соломе вповалку, друг на друге, среди нечистот, и, можно сказать, гнили в этом смраде. У большей части их раны были поражены гангреной или страшно загрязнены. Все они умирали с голоду»89. Очевидцу Митаревскому запомнился в Витебске некий лабаз, занятый операционной. Возле лабаза стояли лужи крови, оттуда «выбрасывали отрезанные руки и ноги, которые растаскивали собаки»90. Вообще, медицина была в те времена простая — ампутация, причем без наркоза (его заменял стакан водки), считалась порой единственным спасением при ранении рук и ног, особенно с обнажением костей и смещением. Поэтому всех, кто приближался к полевому госпиталю, поражало зрелище отрезанных рук и ног, которые кучами грузили на телеги и куда-то увозили.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: