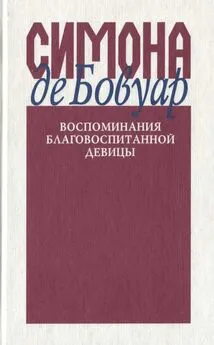Симона де Бовуар - Сила обстоятельств: Мемуары
- Название:Сила обстоятельств: Мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом «Флюид»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98358-110-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Симона де Бовуар - Сила обстоятельств: Мемуары краткое содержание
Симона де Бовуар (1908–1986) — одна из самых известных французских писательниц и самых ярких «феминисток» XX века. Жан Поль Сартр, Альбер Камю, Андре Жид, Жан Жене, Борис Виан и многие другие — это та среда, в которой проходила ее незаурядная жизнь. Натура свободолюбивая и независимая, она порождала многочисленные слухи, легенды и скандалы. Но правда отнюдь не всегда соответствует легендам. Так какой же на самом деле была эта великая женщина, опередившая свое время и шагнувшая в вечность? О себе и о людях, ее окружавших, о творчестве, о любовных историях и злоключениях — обо всем она откровенно рассказывает в своей автобиографической книге «Сила обстоятельств».
Сила обстоятельств: Мемуары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наша позиция раздражала Камю. Его антикоммунизм уже вызвал глубокие разногласия между нами. В ноябре 1945 года, провожая меня на машине до дома, он защищал де Голля в противоположность Торезу и крикнул на прощанье: «У генерала де Голля вид хотя бы не такой, как у Жака Дюкло». Этот аргумент, высказанный им с досады, привел меня в замешательство. Теперь он занимал позицию, далекую от де Голля, но еще более далекую от компартии. Вернувшись из Нью-Йорка, Камю испытывал к США меньше симпатии, чем Сартр, однако его враждебность по отношению к СССР от этого не ослабла. В отсутствие Камю Арон и Олливье поддержали на страницах «Комба» СФИО [17] СФИО — Французская социалистическая партия.
, большую часть своих сторонников набиравшую среди мелкой буржуазии; он не опроверг их. Вскоре после своего возвращения Камю принял Боста у себя в кабинете, откуда только что вышел Арон, заявивший язвительно: «Иду писать правую передовицу». Камю удивился. Бост объяснил ему, что он думает по поводу нынешней линии газеты. «Если ты недоволен, уходи», — сказал Камю. «Что я и собираюсь сделать!» — ответил Бост и разорвал свои отношения с «Комба». Камю возмутился: «Вот она, признательность!» Между тем если сам он в течение долгого времени не писал в «Комба», то потому, как мне сказали, что был недоволен влиянием, какое приобрел там Арон. Думается, что он к тому же сторонился политики. Он погрузился в нее постольку, поскольку увидел возможность «непосредственного обращения человека к другим людям», то есть мораль. Однажды Сартр поставил ему в упрек такое смешение: ««Комба» слишком много внимания уделяет морали и слишком мало политике». Камю заупрямился. Между тем в середине ноября 1946 года статьей под названием «Ни жертвы, ни палачи» он возобновил свою работу в газете, и опять-таки из этических соображений. Он не любил ни колебаний, ни риска, которые предполагает политическая мысль; ему требовалась уверенность в своих идеях, чтобы быть уверенным в себе. На противоречивую ситуацию он реагировал, отстраняясь от нее, и усилия Сартра приноровиться к ней выводили его из себя. Экзистенциализм его раздражал. Прочитав в «Тан модерн» начало эссе «За мораль двусмысленности», он сделал мне несколько резких замечаний: по его мнению, я грешила против «французской ясности мысли». А мы считали, что во имя этого идеала он нередко довольствовался чересчур недалекой мыслью, не по необдуманности, а из предубеждения: так он защищался. Тяжело зависеть от других, когда считаешь себя суверенным: от этой иллюзии, свойственной буржуазным интеллектуалам, никто из нас не мог вылечиться без усилий. У всех моральное соображение имело целью вернуть себе это превосходство. Но Сартр, а вслед за ним и я, мы избавились от балласта. Прежние наши ценности оказались подточенными из-за существования масс, в том числе благородство, за которое мы так упорно держались, и даже аутентичность. В своих исканиях Сартр мог идти на ощупь, но никогда не замыкался в себе. А Камю отгораживался. У него было представление о себе, от которого никакая работа, никакое откровение не могли заставить его отречься. Наши отношения оставались очень сердечными, но иногда их омрачала некая тень, их колебания в гораздо большей степени зависели от Камю, чем от Сартра или от меня: он признавался, что наше присутствие усиливало его симпатию, зато на расстоянии он часто на нас сердился.
В октябре в нашу группу ворвался новый человек с неистовой натурой: Кёстлер, чью пьесу «Бар в сумерках» собирались ставить в Париже. Друзья заверили нас, что антисталинизм не отбросил его вправо; одной американской газете Кёстлер заявил, что если бы он был французом, то предпочел бы добровольно уехать в Патагонию, чем жить под властью голлистской диктатуры.
Первая наша встреча произошла в «Пон-Руаяле». Он заговорил с Сартром с подкупающей простотой: «Здравствуйте, я Кёстлер». Мы снова встретились с ним в квартире на площади Сен-Жермен-де-Пре, где Сартр только что поселился со своей матерью. Не допускающим возражений тоном, который смягчала почти женская улыбка, Кёстлер заявил Сартру: «Как романист вы лучше меня, а как философ — хуже». Он как раз писал философскую работу, главные линии которой изложил нам в общих чертах: ему хотелось обеспечить человеку возможность самостоятельных действий, не отходя от психологического материализма. Слушая его, я подумала, что он, конечно, лучше как романист, чем как философ. В тот день мы были смущены его педантичностью самоучки, его доктринерской уверенностью и ученостью, основанными на посредственной марксистской подготовке. Чувство неловкости не исчезло и в дальнейшем. Если с Камю мы никогда не говорили о своих книгах, то Кёстлер постоянно ссылался на себя: «Почитайте, что я об этом написал». Успех вскружил ему голову, он был преисполнен тщеславия и важности. Но и горячности тоже, и жизнелюбия, и любознательности. В споры он привносил неутомимую страсть и в любой час дня и ночи готов был обсуждать любой вопрос. Не жалея ни своего времени, ни себя самого, он не скупился и на свои деньги; роскоши он не любил, но если выходил с кем-то, то хотел непременно платить за все и деньги тратил без счета. Он простодушно гордился своей женой, Мамэн, принадлежавшей к аристократической английской семье. Светловолосая, очень красивая, с острым умом, она светилась хрупкой прелестью, у нее тогда уже были больные легкие, отчего она и умерла лет через десять.
В течение трех или четырех недель, которые Кёстлер провел в Париже, мы часто встречались с ним, обычно вместе с Камю: они очень сблизились. Один раз с нами пошел Бост, и случилось так, что беседа кончилась ссорой, так как Бост защищал политику компартии. «Вам не следовало его звать, это было ошибкой», — строго сказал нам на следующий день Кёстлер: он ненавидел молодых, чувствуя себя исключенным из их будущего и в любом исключении усматривая приговор. Обидчивый, неуравновешенный, жаждущий человеческого тепла, он был отрезан от других своими личными наваждениями. «У меня свои фурии», — говорил Кёстлер. Это создавало между нами неустойчивые отношения. Как-то вечером мы ужинали вместе с ним, Мамэн, Камю, Франсиной и отправились в маленький танцевальный зал на улице Гравиллье, потом он властно пригласил нас в «Шехеразаду». Ни Камю, ни мы никогда не заглядывали в такого рода ночные заведения. Кёстлер заказал закуски, водку, шампанское. На следующий день, во второй его половине, Сартр должен был под эгидой ЮНЕСКО читать в Сорбонне лекцию «об ответственности писателя», которую он еще не подготовил, мы рассчитывали не поздно лечь спать. Однако спиртное, цыганская музыка, а главное, пыл наших разговоров заставили нас потерять счет времени. Камю вновь затронул дорогую его сердцу тему: «Если бы можно было писать правду!» Кёстлер помрачнел, слушая «Очи черные». «Дружба невозможна без согласия в политике», — заявил он осуждающим тоном. Он опять и опять возвращался к своим упрекам в адрес сталинской России, упрекал Сартра и даже Камю в том, что они мирились с ней. Мы не приняли всерьез хмурое настроение Кёстлера, не отдавая себе отчета в его яростном антикоммунизме. Пока он произносил монологи, Камю говорил нам: «Общее у нас с вами то, что для нас главное — это индивиды. Мы предпочитаем конкретное абстрактному, людей — доктринам и дружбу ставим выше политики». Мы соглашались с ним с волнением, которое подогревали спиртное и поздний час. «Невозможна! Невозможна!» — твердил Кёстлер. А я отвечала, то тихо, то во весь голос: «Возможна. Мы сами доказываем это сейчас, раз, вопреки нашим разногласиям, с такой радостью смотрим друг на друга». С некоторыми людьми политика нас ссорила, однако мы пока верили, что с Камю нас разделяют лишь словесные нюансы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: