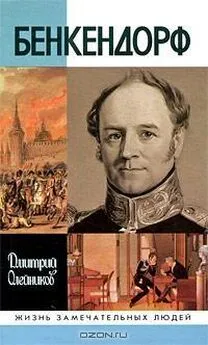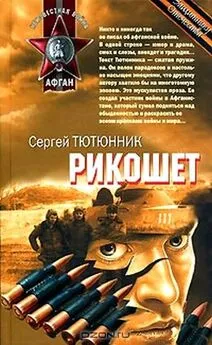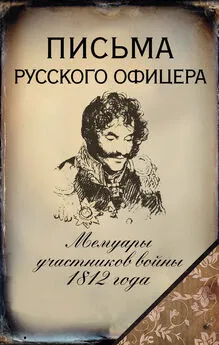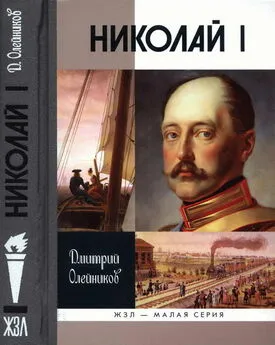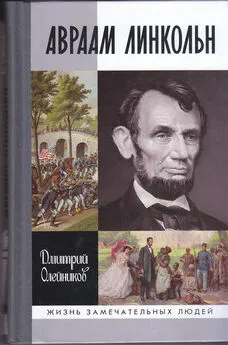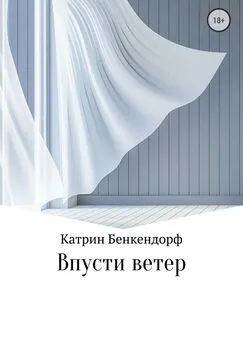Дмитрий Олейников - Бенкендорф
- Название:Бенкендорф
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03176-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Олейников - Бенкендорф краткое содержание
Александр Христофорович Бенкендорф слишком долго играл роль антигероя отечественной истории. Историки и литературоведы, писатели и сценаристы наделяли его всевозможными отрицательными чертами. Это неудивительно — за полтора века не было написано ни одной заслуживающей внимания биографии Бенкендорфа, а значительная часть его мемуаров заросла архивной пылью. Георгиевский кавалер, разведчик и партизан, боевой генерал, герой войны 1812 года, освободитель Голландии от наполеоновского господства, член Государственного совета и Комитета министров, Бенкендорф попытался создать государственный механизм борьбы с коррупцией и казнокрадством. Он был личным другом таких несхожих деятелей, как император Николай I и декабрист Сергей Волконский; ходатайствовал за Пушкина, Лермонтова и Гоголя; увёл любовницу у Наполеона и пережил трагический роман с той, которой посвящено тютчевское «Я встретил вас».
Книга историка Дмитрия Олейникова рассказывает о том, как жил, воевал, путешествовал, любил граф Бенкендорф.
Бенкендорф - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Тот не верил и продолжал настаивать.
— Вы сами себе вредите, — заговорил он опять, — я понимаю, что теперь вы не хотите сознаться в том, что говорили за бокалом шампанского, но вы напрасно упорствуете, вас ожидает крепость, будьте лучше откровенны.
— Да я готов, но положительно ничего не знаю.
— Государь милостив, и, если вы сознаетесь, он вас простит, иначе…
Понятно, что в эту минуту нервы у меня были сильно расшатаны всем пережитым, крепость стояла перед глазами, как фантом. Несмотря на всю твёрдость моего характера, я настолько был потрясён, что, наконец, почти машинально выговорил, что действительно слышал о цареубийстве. Тогда Бенкендорф тотчас же велел подать мне бумагу, и я так же машинально подписал её»71.
Когда В. И. Штейнгейль представил комитету слишком резкие показания, задевавшие честь императора Николая Павловича, Бенкендорф переждал взрыв всеобщего возмущения и «кротко» предложил: «Вы можете это переменить, ведь нам надобно это присовокупить к делу… мы пришлём вам переписанные вопросы, напишите те же ответы, выпустив всё оскорбительное»72. Так и было сделано, и Штейнгейль избежал дополнительных обвинений в «оскорблении величества».
В целом, по замечанию того же Гангеблова, «два главные и едва ли не единственные деятеля во всех отношениях были на высоте своей задачи, чтоб импонировать, с одной стороны, убеждением, а с другой — угрозой. Бенкендорф, своим кротким участием, едва ли выпустил из своих рук кого-либо из допрошенных им более или менее успокоенным и обнадёженным; тогда как Чернышёву, с его резким, как удар молота, словом, с его демонским взглядом, запугиванье давалось легко»73.
В современном исследовании О. В. Эдельман разница в методах действий двух дознавателей получила численное выражение. Каждый «вёл» свою группу подследственных (Бенкендорф — в основном членов Северного общества, Чернышёв — Южного). Среди подопечных Бенкендорфа оказалось заметно больше освобождённых с оправдательными приговорами (24 из 89 против 11 из 100 у Чернышёва) и заметно меньше приговорённых к каторге (менее трети, тогда как у Чернышёва — больше половины). Из пяти казнённых декабристов подследственными Чернышёва были трое74.
Но до суда было ещё далеко. Пока же продолжались допросы.
Комитет решал задачу, поставленную императором: «…Разыскивать подстрекателей и руководителей… Никаких остановок до тех пор, пока не будет найдена исходная точка всех этих происков»75. В определении «исходной точки» следствие дошло до вопроса о причастности к заговору некоторых высших сановников империи. Осторожно, «уклоняясь высказать явное подозрение», дознание выясняло, имеют ли отношение к заговорщикам наместник Кавказа А. И. Ермолов, председатель Государственного совета Н. Д. Мордвинов, сенатор Д. О. Баранов, начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселёв… Самое, пожалуй, громкое имя в этом ряду — М. М. Сперанский. Комитет обратил на него внимание с первых же дней следствия. Сначала подпоручик Андреев признался на предварительном допросе 15 декабря: «Надежда общества была основана на пособии Совета и Сената, и мне называли членов первого — господ Мордвинова и Сперанского, готовых воспользоваться случаем, буде мы оный изыщем. Господин же Рылеев уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оное одабривают»76. Затем имя Сперанского появляется в показаниях Рылеева, Трубецкого, Каховского.
Когда Каховский доказывал «необходимость иметь в Обществе для доверия известных людей», Рылеев якобы отвечал: «Успокойся, пожалуйста, у нас есть люди и в Сенате, и в Государственном совете. Я тебе скажу, но прошу молчать и никому не говорить, Ермолов и Сперанский наши»77.
Ситуация усугубилась после допроса поручика Сутгофа, «который, между прочим, показал, будто Каховский сказал ему, что Батеньков связывает общество со Сперанским и что генерал Ермолов знает об обществе»78. Положение Сперанского становилось всё более шатким. Николай, хотя и с большим сожалением, признался в те дни Карамзину: «Сперанского не сегодня, так завтра, может быть, придётся отправить в Петропавловскую крепость»79.
В близком к Сперанскому подполковнике Батенькове подозревали «связного» между тайным обществом и знаменитым реформатором Александровской эпохи. Однако Батеньков спас своего покровителя, прокомментировав предположения следствия так: «Чтобы я связывал общество с господином Сперанским и чтоб оно было с ним чрез меня в сношении — сие есть такая клевета, к которой ни малейшего повода и придумать я не могу… С г. Сперанским, как с начальником моим и благодетелем, я никогда не осмеливался рассуждать ни о чём, выходящем из круга служебных или семейных дел… сам об нём говорил весьма редко, всегда с уважением, и решительно могу утверждать, что ни малейшего не подал повода даже надеяться и сам никогда не думал, чтоб о существовании какого-либо тайного общества можно было ненаказанно довести до его сведения»80.
В конце концов оказалось, что «предположение о тайном советнике Сперанском, который будто не отказался бы занять место во временном правительстве, основывал Рылеев на любви Сперанского к отечеству и на словах Батенькова, сказавшего однажды Рылееву: „Во временное правительство надобно назначить людей известных“»81. Точно так же известие о том, что «Ермолов знает о тайном обществе», родилось из фразы, переданной Каховскому Рылеевым: якобы Никита Муравьёв слышал, будто «проконсул Кавказа» однажды сказал своему адъютанту Граббе: «Оставь вздор; государь знает о вашем обществе»82.
Тем не менее дело было выделено в специальное секретное производство и заниматься им было поручено А. X. Бенкендорфу.
Как отмечал в своих записках А. Д. Боровков, «изыскание» об отношении членов Государственного совета графа Мордвинова, Сперанского и Киселёва, а также сенатора Баранова «к злоумышленному сообществу» производилось «с такою тайною, что даже чиновники комитета не знали»; Боровков «собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело»83. Из гласных отчётов о ходе следствия любые намёки на высших чиновников исключались, а материалы секретного следствия до нашего времени не дошли. Известен — да и то в субъективном изложении одной из сторон — лишь «секретный» диалог Бенкендорфа с Трубецким. Он показателен с точки зрения методов, применявшихся комитетом для выяснения наиболее щекотливых вопросов следствия. Посмотрим, насколько далеки они от сдавливания головы обручами или пытки бессонницей…
«…28 марта, после обеда, отворяют дверь моего номера, и входит генерал-адъютант Бенкендорф, высылает офицера и после незначащих замечаний о сырости моего жилища садится на стул и просит меня сесть. Я сел на кровать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: