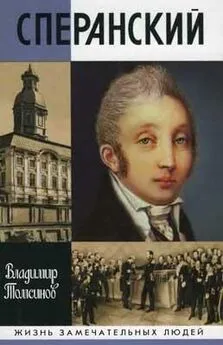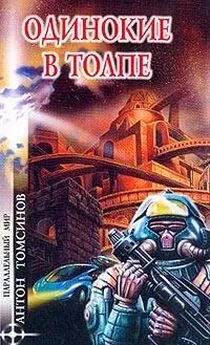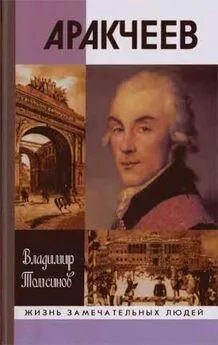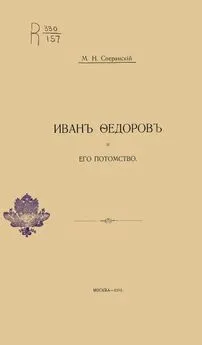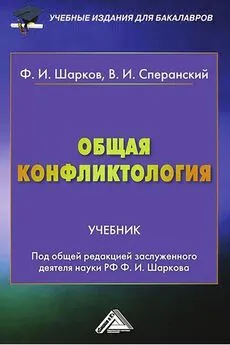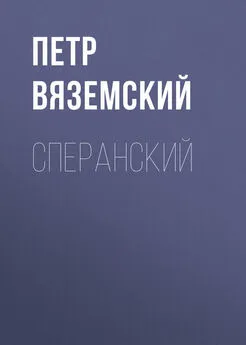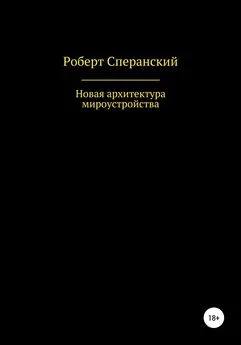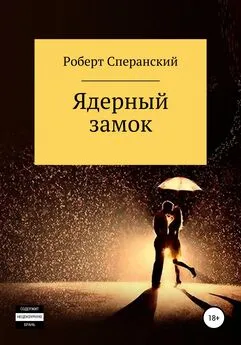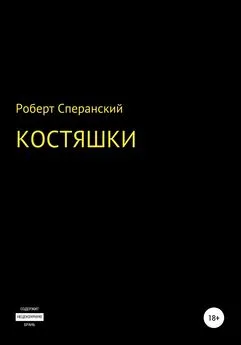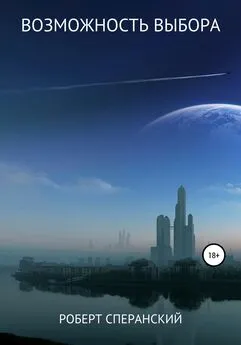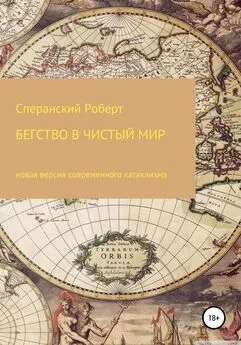Владимир Томсинов - Сперанский
- Название:Сперанский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02862-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Томсинов - Сперанский краткое содержание
Книга представляет собой документальное повествование о необычной судьбе одного из наиболее выдающихся государственных деятелей и реформаторов России Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839). Ему, сыну простого сельского священника, суждено было оказаться в самом пекле политической жизни страны первой трети XIX века, пережить невиданные взлеты и падения. Личность Сперанского изображена на фоне событий эпохи, во взаимоотношениях с императорами Александром I и Николаем I, видными сановниками, литераторами, декабристами.
Сперанский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава десятая. В петербургской «ссылке»
Его все считают честолюбивым человеком, между тем в нем не было и тени честолюбия. Это мнение основано на его жизни по возвращении из ссылки. Но забывают, что эта ссылка продолжалась и в Петербурге, что ему нельзя уже было здесь действовать, — у него по-прежнему были скованы руки, а потребность действовать страшная, — и, разумеется, он принужден был делать уступки. За убеждения свои он готов был идти и в ссылку, в каторжную работу, и на плаху. Он ничего не боялся…
Гавриил БатеньковДевять лет вряд ли большой срок для жизни общества, и тем не менее, возвратившись в Санкт-Петербург, Сперанский вступил как будто в новый, неведомый для себя мир. События Отечественной войны создали в русском обществе небывалую обстановку. Они ускорили духовное возмужание молодых людей. Молодое поколение впервые в истории России стало силой, влияющей на духовную атмосферу целого общества. В России опять вошел в моду либерализм, привычными стали не только разговоры, но и публичные речи о политической свободе, представительных учреждениях, конституции. В этом было, пожалуй, нечто знакомое Сперанскому, нечто из того далекого, но так сладостно и тоскливо памятного ему прошлого — молодости его и текущего царствования. Те же, казалось бы, настроения, те же разговоры… Те — да не те!
Либерализм первых лет Александрова правления нанизан был, словно на некий стержень, на веру в благие намерения государя — веру в серьезность и осуществимость его либеральных замыслов. Русский либерализм 1820-х годов такого стержня не имел. Александру уже не верили.
Весьма показательной в этом смысле была реакция передовых россиян на речь императора в Варшаве весной 1818 года на заседании Польского сейма. Александр I заявил в ней о своем намерении ввести в России «законносвободные постановления». Он сказал полякам в присутствии русских: «Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Напечатанная вскорости в довольно значительных выдержках в официальном издании — правительственной газете «Северная почта» (№ 26 за 1818 год) — речь эта стала широко известной в русском обществе и конечно же не могла не возбудить определенных надежд на преобразования. Но вместе с надеждами немедленно возникли и сомнения. П. А. Вяземский, присутствовавший на заседании сейма во время произнесения Александром I его знаменитой речи, писал о ней А. И. Тургеневу: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет. На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет». Младший из братьев Тургеневых, Сергей Иванович, говорил тогда же своим братьям, имея в виду варшавскую речь российского императора: «Не прельщайтесь блестящим, но обманчивым красноречием».
Правда, сейчас же после речи Александра в Варшаве была создана специальная комиссия по подготовке проекта конституции для России во главе с Н. Н. Новосильцевым, активным участником реформаторских опытов начала XIX века. И деятельность этой комиссии была не бесплодной — в результате ее появился документ под названием «Государственная уставная грамота Российской империи». Однако и в данном случае дальше создания конституционного проекта дело не пошло. Впрочем, это никого уже не удивило. Сергей Иванович Тургенев, возвращаясь из Франции в Россию в конце 1819 года, остановился в Варшаве и встретился там с Новосильцевым. Вот какое впечатление вынес он от этого человека, призванного к подготовке преобразований: «Энтузиазма нисколько, умом не блестит, познания есть благородные, но в них он отстал. Президентом Академии Наук был бы он еще и теперь хорошим, но тем, чем ему здесь быть назначено, законодателем, преобразователем, — нет, нет; в этом он ничего большего не сделает; амбиции в нем, кажется, нет, но тщеславие осталось, хотя ослабленное любовию к покою».
Нечто сходное присутствовало тогда в душевном состоянии и самого российского императора. Эйфория, вызванная в нем победой над Наполеоном, к тому времени вполне уже испарилась. На место ее вновь заступило тяжелое разочарование в окружающем и в самом себе.
Отечественная война до предела обострила патриотические чувства в русском обществе. Его величеству следовало бы с этим считаться. Но нет — вынужденный во время войны уступать патриотическим настроениям русских, Александр I по ее окончании взял себе за правило всячески пренебрегать этими настроениями. Он стал усиленно окружать себя иностранцами, выдвигать их на видные должности, осыпать наградами. Александровский генералитет запестрел фамилиями Бистромов, Гельфрейхов, Кноррингов, Корфов, Нейгардтов, Ольдекопов, Пейкеров, Паленов, Шварцев, Эссенов.
Недоумение русских действиями своего императора легко перерастало в недовольство его личностью, которое быстро ширилось, охватывая все новых людей. Среди недовольных Александром I и его политикой покровительства иностранцам были такие известные русскому обществу личности, как А. П. Ермолов, А. А. Закревский, граф М. С. Воронцов, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов, П. Д. Киселев и др. А. П. Ермолов писал 8 июня 1823 года А. А. Закревскому, что в России отныне «прочным образом основалось царство немцев», выражая при этом мнение, что «конечно, попользуются они случаем».
Недовольство императором Александром имело место в русском обществе и прежде. Но на этот раз оно было много серьезнее. Оно шло далее обыкновенного недовольства человеком, превращаясь в разочарование в самодержавной власти вообще, в неверие в ее способность преобразить Россию, установить конституционное правление с соответствующими политическими свободами. И самое главное — неверие выливалось в действие.
В 1816 году в России возникли первые тайные дворянские общества («Орден русских рыцарей» и «Союз спасения»), ставившие своей целью замену самодержавия конституционной монархией. Спустя два года общества эти распались. Возникший вместо них «Союз благоденствия» был также проникнут стремлением к замене самодержавия представительной формой правления, которая мыслилась, правда, не в качестве первичного революционного действия, но как завершающий акт, должный последовать после серии разного рода реформ.
В январе 1821 года «Союз благоденствия» по разным причинам и, в частности, вследствие пересмотра его участниками своих идейных позиций, а также по конспиративным соображениям самораспустился. Вместо него возникло два новых тайных общества — Южное и Северное, в которых стало преобладать стремление установить новый политический строй посредством революции. Первое из революционных обществ оформилось в марте 1821 года, то есть именно тогда, когда вновь появился в Петербурге человек, имя которого было в России символом официальной, правительственной политики реформ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: