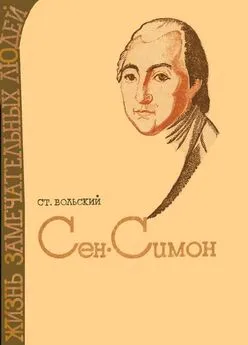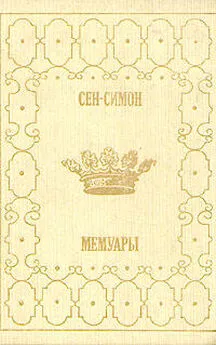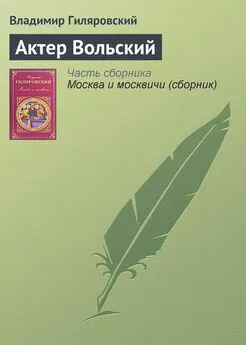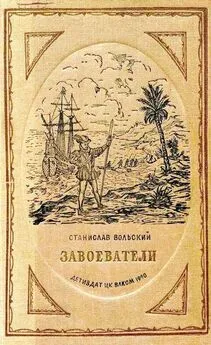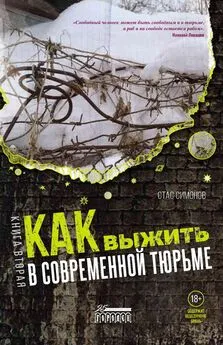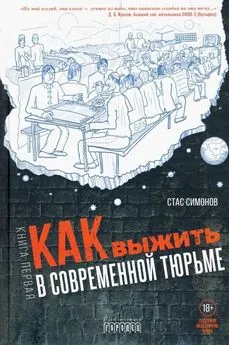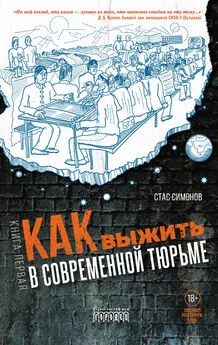Станислав Вольский - Сен-Симон
- Название:Сен-Симон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнально-газетное объединение
- Год:1935
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Вольский - Сен-Симон краткое содержание
Биография Клода Анри де Рувруа, граф де Сен-Симона, французского философа, социолога, известного социального реформатора, основателя школы утопического социализма. Вышла в серии Жизнь замечательных людей в 1935 году.
Автор Станислав Вольский, партийно-литературный псевдоним Андрея Владимировича Соколова.
Сен-Симон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что видно за стенами замка
Чтобы увидеть тружеников, не надо далеко ходить — стоит только выехать за ворота замка, что Клод Анри делает ежедневно. Там перед ним развернутся совсем другие сцены, не имеющие ничего общего с жизнью высшего света. Мало отрадного встретит он там, но много такого, что залегает в сознании глубокой бороздой, тревожащей ум и мучающей совесть.
Быт крестьян того округа, где находится имение графа Сен-Симона (в настоящее время округ входит в состав департамента Соммы), не освещен французскими историками, но зато благодаря тщательным работам Лучицкого, Ланда, Лафаржа и некоторых других нам известно положение крестьян других округов (Артуа, Лимузена, части Пикардии, Нормандии). Выберем из них ту, где, по отзывам современников, земледелие достигло наивысшего развития, — провинцию Артуа, и посмотрим, как обстояло дело в этом наиболее благополучном из земледельческих районов.

Франсуа Огюст Шатобриан (1768–1848)
Общий вид артуазских деревень чрезвычайно жалкий. Дома небольшие, крытые соломой, плохо выстроенные, нередко полуразрушенные, надворные постройки убогие, рабочий скот плохо выкормленный.
Это унылое зрелище скрашивают кое-где крепкие, веселенькие фермы, где живет крестьянская аристократия, и дома зажиточных буржуа, купивших землю на нажитые в городе капиталы. Но таких домов и ферм сравнительно очень немного: они тонут в массе дырявых крыш, соломенных навесов, покосившихся стен, подгнивших плетней. «Нищая страна!» — заключает путешественник, проезжая по этим местам.
Его заключение правильно в большинстве случаев, но далеко не во всех: при более близком знакомстве с этим крестьянским морем в нем оказывается много оттенков, градаций, незаметных с первого взгляда различий, прячущихся под однотонной личиной нищеты, подобно тому, как дворяне прячут свое убожество под личиной показной пышности.
Наиболее многочисленная группа — это мелкие крестьяне-собственники (journaliers), владеющие клочком в 1–1½ гектара земли и иногда арендующие столько же у сеньора, близлежащего монастыря или богатого буржуа. Часто у них не имеется рабочего скота, и свои поля и огороды они вскапывают лопатой. Пища — ржаной хлеб, чечевица, каштаны, бобы; мясо появляется только несколько раз в году. Обстановка — две табуретки и огромная семейная кровать, где на соломенном матраце спят вместе и родители, и дети, — вот и весь домашний комфорт.
Следующая группа — середняки (laboureurs), имеет значительно большие земельные участки величиной от 6 до 8 гектаров. Большая часть этих участков арендуется и лишь немногие принадлежат крестьянам на правах собственности. У владельцев имеется две-три коровы, лошадь, иногда мелкий рабочий скот (ослы). Питание гораздо обильнее, и мясо является отнюдь не таким уж редким исключением. В рабочую пору в некоторых семьях оно подается на стол почти ежедневно.
Дальше идут крупные крестьяне, владеющие участками в десять-пятнадцать гектаров. В этой группе, составляющей переходную ступень к земледельческой аристократии — фермерам, — и питание, и обстановка, и быт уже совсем другие. Семья ест сытно, одевается в костюмы из крепкого, добротного сукна, спит на приличных кроватях, щеголяет хорошей посудой, стульями, шкафами, но старается не выставлять на вид своего благополучия и живет почти в таких же убогих домишках, как и беднота. Излишне добавлять, что у таких крестьян рабочего скота намного больше, чем у их малоимущих соседей.
Сельская аристократия, арендующая у сеньоров и духовенства большие (по 30–40 гектаров) и благоустроенные фермы, уже не боится показывать свою зажиточность. Чтобы ослабить пыл королевского сборщика податей, у нее имеется гораздо более действительное средство, чем нищенская внешность дома: взятка обеспечивает ей такие скидки и льготы, которых тщетно стал бы добиваться бедняк. И потому надворные постройки ее содержатся в порядке, крыша ферм не течет, сады и огороды благоустроены, коровы и лошади сыты. Наемный труд, который даже у крупных крестьян играет сравнительно второстепенную роль, является основным условием хозяйства и обслуживает большую часть хозяйственных процессов.
Буржуазные имения стоят особняком от деревни и мало чем отличаются от дворянских. Городская буржуазия, усиленно скупающая землю у разоренной феодальной знати, очень редко ведет самостоятельное хозяйство и предпочитает жить спокойной жизнью рантье, раздавая в аренду крестьянам почти все свои владения. Капиталистический землевладелец-предприниматель еще не успел пустить корни в этой среде: городские богачи стремятся в деревню не для того, чтобы жить сельским хозяйством, а для того, чтобы хищнически эксплуатировать крестьянское малоземелье.
Установить процентное соотношение между этими группами недворянского землепользования не только в пределах всей Франции, но и в пределах одной провинции нельзя. На основании отрывочных данных, охватывающих жизнь отдельных округов, можно однако сказать, что в провинции Артуа, например, большая часть земельной площади находится в пользовании двух первых групп, что доля третьей группы (фермеров) выражается сравнительно небольшим процентом, а территории, на которых ведет самостоятельное хозяйство буржуазия, настолько же незначительны, как и территории, находящиеся в обработке у дворянства. Приблизительно то же самое наблюдается и в других провинциях [9] Вопрос о распределении обрабатываемой площади между различными группами сельского населения до сих пор окончательно не решен и вызывает чрезвычайно много споров. Старые историки Французской революции, — Тэн, Токвиль, — считали, что и в дореволюционную эпоху земля была распылена между большим числом землевладельцев. Историки более позднего времени — Барре, Мартен, — оспаривали это утверждение и на основании «наказов» (cahiers de doleances) доказывали, что в средине XVIII века концентрация обрабатываемой территории в руках буржуазных землевладельцев достигла довольно высокой степени. Историки последних лет возвращаются на основании данных о подоходном обложении к первому взгляду, который проводится и в настоящей книге.
.
Помимо малоземелья, главным злом крестьянского хозяйства является неопределенность земельных прав, непосредственно вытекающая из системы дворянского землевладения. Желая удержать за собой феодальные привилегии, а с другой стороны — в силу закона, запрещающего отчуждения родовых имений, дворянство очень редко продает землю крестьянам в собственность. В огромном большинстве случаев оно сдает ее в аренду, стараясь при этом возможно более укоротить арендные сроки и вводя в арендные договоры целый ряд условий, дающих землевладельцу право в любой момент под тем или иным предлогом расторгнуть арендный договор. Естественно, что у мелкого арендатора, снимающего свой участок на какие-нибудь 5–6 лет, нет никакого желания улучшать землю, которая может ускользнуть от него даже раньше оговоренного срока. Крупные фермеры, конечно, гораздо меньше подвержены этой опасности, ибо очень часто не полунищий землевладелец держит их в руках, а они его. Но для средних и мелких арендаторов краткосрочная аренда — жернов на шее, исключающий всякую возможность рационального ведения хозяйства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: