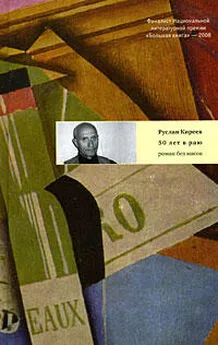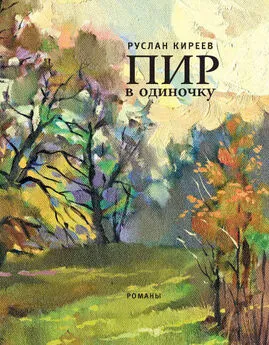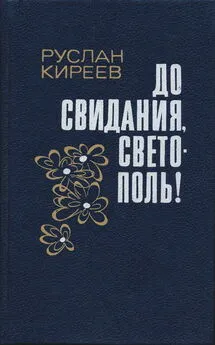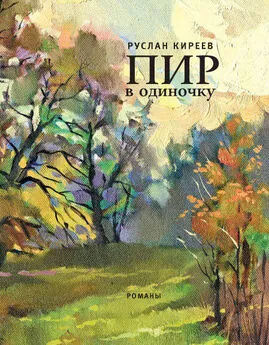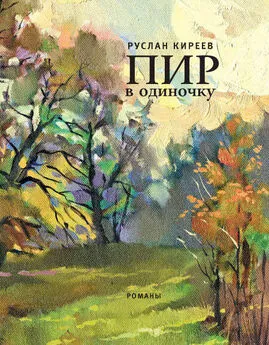Руслан Киреев - Пятьдесят лет в раю
- Название:Пятьдесят лет в раю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0371-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Руслан Киреев - Пятьдесят лет в раю краткое содержание
Роман охватывает период с 1958 года, когда в печати впервые появились стихи Руслана Киреева, по 2007-й, в котором была завершена эта книга. В ней на широком общественно-политическом фоне запечатлены события личной и творческой жизни автора, большинство из которых нашли отражения в его художественных произведениях. Теперь с их героев сняты маски, и они (вернее, их прототипы) представлены перед читателями такими, какими были в реальной жизни, под своими собственными именами. Каждому году посвящена отдельная глава, которая заканчивается «крупным планом». Это – своего рода портреты писателей, с которыми судьба сводила Киреева на протяжении полувека. Катаев и Рубцов, Светлов и Лакшин, Солженицын и Евтушенко, Астафьев и Розов, Маканин и Михалков, Ким и Залыгин… Но главный герой «романа без масок» – это сам автор, написавший беспрецедентную по откровенности и беспощадности к себе исповедь.
Пятьдесят лет в раю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тут, в свою очередь, удивился я. «Здесь два романа». Он строго посмотрел на меня своими сократовскими глазами. «А где остальное?»
Что он имел в виду? Роман об автобусном парке, который вышел несколько лет назад и который я старался никому не показывать? Сборники повестей? «Все, – ответил он. – Я хочу прочитать все, что вы написали на сегодняшний день. Мне нужно понять, откуда, куда и как вы движетесь».
Собравшись духом, я признался, что у меня ведь есть еще и стихи, три книжки. «И стихи тоже!» – потребовал он. «Но они плохие. Я давно бросил…»
Не помогло. Мэтр заявил, что если я сам не принесу ему эти книжки, то ему придется брать их в Ленинке. Сейчас он занимается Лесковым, только Лесковым и никем кроме. Он никогда не работает над двумя авторами одновременно. Чтобы закончить, ему потребуется еще полторы недели. Одиннадцать дней. Одиннадцать или, в крайнем случае, двенадцать. Потом примется за меня.
Это после Лескова-то! А тут еще стихи… Я понимал, что меня ждет позор, но отступать было некуда.
Книгу о Лескове, совсем небольшую книгу, «Лесковское ожерелье» называется, я впоследствии прочел и, помню, удивился, почему скрупулезный автор обошел молчанием одну из ключевых, по моему глубокому убеждению, вещей классика «Овцебык». «Я уступлю ему дорогу», – говорит герой его, книгочей и странник Василий Петрович, об энергичном, предприимчивом и ненавистном ему Александре Ивановиче. И уступает, поскольку «деловой человек» Александр Иванович «хоть для кого-нибудь на потребу сдастся».
Аннинский «на потребу» не сдавался никогда. Не было, нет и, я уверен, не будет издания, которое сумело бы приучить его, сделать своим – и только своим – автором. Вот уж сколько лет публикуется в полярных по направлению печатных органах, полярных, как эстетически, так и идеологически, и всегда умеет оставаться самим собой.
Даря мне свой капитальный труд «Лев Толстой и кинематограф», он вывел на титуле совсем другое, категорически отклоненное издательством название книги: «Охота на Льва, или Как Толстого кадрили».
Аннинского тоже «кадрили», на него, как на Льва, тоже охотились – и редакции, и авторы, и всякого рода литературные группировки – все безуспешно. Волен и отважен оставался он, легок и весел. Хочу – пишу о Николае Островском (и написал), хочу – об Афанасии Фете… Слывя либералом и вольнодумцем, при каждом удобном случае подчеркивал, что является учеником Вадима Валериановича Кожинова, у которого была репутация воинствующего ретрограда.
Однажды я спросил его, почему он не эмигрировал, и он, как всегда, отреагировал мгновенно: там бы кончилась моя судьба.
Судьба – понятие для него почти сакральное. Даже в письме ко мне, отвечая на мое пространное послание, в котором я поведал ему об одном из своих замыслов, вывел своим размашистым почерком: «Хватит у Вас сил, и будет на то судьба – выдюжите дело огромное».
Ответил опять-таки мгновенно – он вообще человек чрезвычайно обязательный и весьма ценит в других это качество. Первое, что он произнес, открыв мне дверь (а я позвонил в точно назначенный срок, хотя приехал к его дому на Удальцова с изрядным запасом времени, который «выгулял» на улице), – первое, что он произнес, было: «Я так и знал, что будете минута в минуту». Произнес, показалось мне, не только с легкой иронией, но и с удовольствием. С удовольствием, во-первых, оттого, что гость не нарушил его планы, а во-вторых – что разгадал во мне педанта.
Сам он, разумеется, не педант – артистизм не позволяет, удаль и азарт. Пожалуй, его можно назвать фаталистом, но, в отличие от лермонтовского фаталиста, он способен испытывать если не страх, то острое беспокойство. Правда, я видел его в таком состоянии только однажды – в декабре 91-го, когда Советский Союз доживал последние дни. В Нижнем Новгороде было это, куда нас пригласили местные предприниматели, уже пообросшие некоторым жирком. Услышав по радио в своем гостиничном номере, что в Тбилиси штурмуют Дом правительства, а в Москве участники так называемого марша голодных очередей окружили Останкинский телецентр, требуют прямого эфира, спешу в местный Дом архитекторов, где нам выделена просторная комната… Сидим, шлифуем обращение к Ельцину с просьбой защитить прессу, над которой нависла угроза финансового краха, как вдруг вбегает бледный Аннинский. «По телевизору, по обеим программам – классическая музыка!» После августовских событий не прошло и четырех месяцев, и всем памятно, что означает на советских просторах внеурочный Чайковский.
Бледный, растерянный, испуганный Аннинский… Испуганный! Таким, повторяю, я видел его лишь однажды, но этого достаточно, чтобы усомниться в его непрестанных, столь шокирующих собеседника заявлениях, что ему, в принципе, все равно, какая власть на дворе, работать при любой можно.
В том же Нижнем Новгороде, во время застолья, когда Лев Александрович вдохновенно произносил тост, переходящий в маленькую речь, Наум Коржавин, несколько дней назад прилетевший из своей Америки, что-то громко сказал соседу по столу – слишком громко. Но сбить Аннинского не так-то просто. «Наум Моисеевич реагирует на мою мысль», – с удовлетворением констатировал он. «Вернее, на отсутствие таковой», – так же громко или, пожалуй, еще громче парировал заморский гость и опрокинул рюмочку.
Наступила тишина. Тут даже Лев Александрович не нашелся, что ответить. Сам он не обижал людей никогда – ни в темпераментных речах своих, ни в столь же темпераментных статьях. «Жалко автора! Его текст – не „слова“, которые он написал „лучше“ или „хуже“. Это – жизнь его, столь же реальная, как и эмпирическое его существование». А к жизни, в любом ее проявлении, пусть даже полуграфоманском, всегда относился с бережной деликатностью.
«Жизнь профанируется любой доктриной, – убежден он. – И правой, и левой». Потому-то его собственная мысль всегда принципиально открыта, принципиально не навязывает себя, она легка и летуча – оттого-то и не заметил ее любитель жестких формулировок Наум Коржавин. Вот и свою последнюю, свою главную книгу назвал, как отрубил: «В соблазнах кровавой эпохи».
Мне ближе позиция Аннинского. Если «мысль изреченная есть ложь», то мысль затвердевшая, превратившаяся в истину в последней инстанции, собственно, уже не столько истина, сколько инстанция, а любая инстанция ограничивает жизнь.
Вообще понятие «жизнь» для Аннинского не менее сакрально, чем понятие «судьба». «Жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов». Я выписываю эти слова из его предисловия к моему двухтомнику, который должен был выйти в 1991 году к моему пятидесятилетию и который, доведенный до пленок, то есть до последней технологической стадии, оставалось лишь заправить бумагу да включить типографский станок, так и не вышел. Хранится у меня в виде версток и сверок как память о том времени, когда идеологическая цензура была вытеснена цензурой экономической. Другие совсем книги поперли изо всех щелей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: