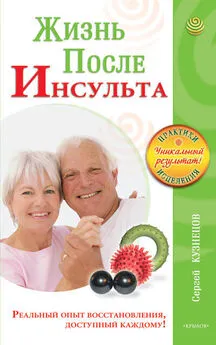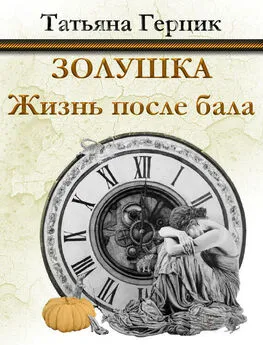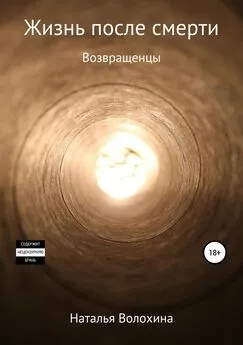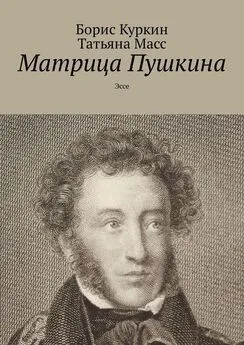Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]
- Название:Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вита Нова
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:5-93898-005-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст] краткое содержание
Цель данной книги — рассказать о малоизвестном периоде жизни Натальи Николаевны после гибели Пушкина. Увидеть ее уже не женой, а вдовой поэта, противостоящей злословию света, матерью малолетних детей, по существу, одинокой среди родственников и друзей. Судьба потомков Натальи Николаевны, которым посвящена вторая часть книги, также до сих пор оставалась белым пятном.
Авторы определяют свой жанр как документально-художественное повествование. Они не навязывают своего мнения — просто выстраивают в хронологическую цепочку факты, документы, письма, фотографии, которые в таком сочетании говорят сами за себя.
Книга содержит более 600 портретов и фотографий, большая часть которых публикуется впервые, а также неизвестные до сих пор материалы из личных архивов потомков Натальи Николаевны.
Реальная жизнь реальных людей захватывает, ведет за собою и не отпускает от начала и до самого конца книги. С ее страниц встает сама эпоха. Пушкинская эпоха. И эпоха ПОСЛЕ Пушкина.
Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
1 — Григорий (1823–1878), женатый морганатическим браком на старшей дочери Николая I;
2 — Сергей, умерший в юности;
3 — Виктор, названный в честь деда — В. П. Кочубея;
4 — Марианна, скончавшаяся в 1839 г.;
5 — Наталья, вышедшая замуж за князя Павла Васильевича Голицына.
Уместно будет напомнить, что юная княжна Наталья Кочубей была предметом увлечения молодого Пушкина. Ей выпала нелегкая судьба: пережить смерть троих детей, внезапную кончину горячо любимого отца, умершего в 1834 г. в Москве от приступа астмы, а спустя 10 лет — и матери, Марии Васильевны, урожденной Васильчиковой (1779–1844). Когда-то влиятельная Н. К. Загряжская, урожденная Разумовская, не имея своих детей, чуть ли не силой отняла племянницу Машу у своей сестры Анны Кирилловны Васильчиковой и, удочерив, сделала наследницей своего огромного состояния. (Сохранился портрет Марии Васильевны Кочубей, написанный Франсуа Жераром ок. 1809 г.)
И вот теперь, по праву родства, все они покоятся рядом — все четверо — потомки во втором и третьем поколении от братьев Ивана и Николая Загряжских.
201
История этого похищения, происшедшего 5 мая 1851 г., взбудоражила весь Петербург. Поимкой беглецов занималось вездесущее III Жандармское Отделение. Возмутителей спокойствия задержали. «Коварного соблазнителя» заточили в крепость, а беглянку жену возвратили обманутому мужу. Но прежде Лавинию Александровну Жадимировскую, урожденную Бравура, допрашивал генерал-лейтенант Л. В. Дубельт, в отсутствие шефа жандармов графа А. Ф. Орлова возглавлявший III Отделение.
В своих показаниях 18-летняя «преступница» писала:
«Я вышла замуж за Жадимировского по моему собственному согласию, но никогда не любила и до нашей свадьбы откровенно говорила ему, что не люблю его. Впоследствии его со мною обращение было так невежливо, даже грубо, что при обыкновенных ссорах за безделицы он выгонял меня из дома, и, наконец, дерзость его достигла до того, что он угрожал мне побоями. При таком положении дел весьма естественно, что я совершенно охладела к мужу и, встретив в обществе князя Трубецкого, полюбила его. Познакомившись ближе с Трубецким, не он мне, а я ему предложила увезти меня, ибо отвращение мое к мужу было так велико, что если бы не Трубецкому, то я предложила бы кому-либо другому спасти меня. Сначала он не соглашался, но впоследствии, по моему убеждению, согласился увезти меня, и карета была прислана за мною. <���…> Другой причины к моему побегу не было, и другого оправдания привести я не могу, кроме той ненависти, которую внушил мне муж мой» {1333} .
По настоянию Николая I («Государь император высочайше повелеть соизволил взять с вас допрос: как вы решились похитить чужую жену с намерением скрыться с нею за границу…»), допрос Трубецкому был учинен комендантом крепости, которому подследственный ответил: «Я решился на сей поступок, тронутый жалким и несчастным положением этой женщины. Знавши ее еще девицей, я был свидетелем всех мучений, которые она претерпела в краткой своей жизни. Мужа еще до свадьбы она ненавидела и ни за что не хотела выходить за него замуж. Долго она боролась, и ни увещевания, ни угрозы, ни даже побои не могли ее на то склонить. Ее выдали (как многие даже утверждают, несовершеннолетнею) почти насильственно, и она только тогда дала свое согласие, когда он уверил ее, что женится на ней, имея только в виду спасти ее от невыносимого положения, в котором она находилась у себя в семействе, и когда он дал ей честное слово быть ей только покровителем, отцом и никаких других не иметь с нею связей, ни сношений, как только братских. На таком основании семейная жизнь не могла быть счастливою: с первого дня их свадьбы у них пошли несогласия, споры и ссоры. Она его никогда не обманывала, как до свадьбы, так и после свадьбы, она ему и всем твердила, что он ей противен и что она имеет к нему отвращение. Каждый день ссоры их становились неприятнее, и они — ненавистнее друг другу, и наконец, дошло до того, что сами сознавались лицам даже совершенно посторонним, что жить вместе не могут. Она несколько раз просила тогда с ним разойтись, не желая от него никакого вспомоществования, но он не соглашался, требовал непременно любви и обращался с нею все хуже и хуже. Зная, что она никакого состояния не имеет и — я полагаю, — чтобы лучше мстить, он разными хитростями и сплетнями отстранил от нее всех близких и успел, наконец, поссорить ее с матерью и со всеми ее родными.
<���…> я получил от нее письмо, в котором она мне описывает свое точно ужасное положение, просит спасти ее, пишет, что мать и все родные бросили ее, и что она убеждена, что муж имеет намерение или свести ее с ума, или уморить. <���…>
Я любил ее без памяти, положение ее доводило меня до отчаяния, — я был как в чаду и как сумасшедший, голова ходила у меня кругом, я сам хорошенько не знал, что делать, тем более, что все это совершилось менее чем в 24 часа. Сначала я хотел ей присоветовать просить убежища у кого-нибудь из своих родных, но как ни думал и как ни искал, никого даже из знакомых приискать не мог, тогда я вспомнил, что когда-то хотел с Федоровым ехать вместе в Тифлис. <���…>
Когда мы уехали отсюда, я желал только спасти ее от явной погибели, я твердо был убежден, что она не в силах будет перенести слишком жестоких с нею обращений и впадет в чахотку или лишится ума. Я никак не полагал, чтобы муж, которого жена оставляет, бросает добровольно, решился бы идти жаловаться. Мы хотели только скрываться от него и жить где-нибудь тихо, скромно и счастливо. Клянусь, что мне с нею каждое жидовское местечко было бы в тысячу раз краснее, чем Лондон или Париж. Я поступил скоро, необдуманно и легкомыслием своим погубил несчастную женщину, которая вверила мне свою участь» {1334} .
12 февраля 1852 г. С. В. Трубецкой был освобожден из заточения и отправлен рядовым к новому месту службы. 20 ноября 1855 г., уже после смерти Николая I, он был уволен со службы по болезни и вскоре поселился в своем имении Муромского уезда Владимирской губернии, находясь под тайным надзором и с указанием о невыдаче ему заграничного паспорта. 17 апреля 1857 г. Александром II ему были возвращены права потомственного дворянства и княжеский титул, а в марте 1858 г., как доносил жандармский штаб-офицер, «князь привез с собою из Москвы <���…> экономку, у которой, говорят, хороший гардероб, чего князь сам будто бы не в состоянии был сделать, что живет тихо, а экономка никому не показывается». Спустя месяц уточнил: «живущая у князя дама довольно еще молода, хороша собою, привержена к нему так, что везде за ним следует и без себя никуда не пускает» {1335} .
Под видом экономки в доме Трубецкого поселилась Лавиния Жадимировская, но счастье влюбленных оказалось недолгим: 19 апреля 1859 г. на 44-м году жизни Сергей Васильевич скончался, а 26-летняя Лавиния Александровна, по ходатайству на высочайшее имя, в мае 1859 г. получила заграничный паспорт, чтобы похоронить себя в стенах католического монастыря.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [только текст]](/books/368287/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol.webp)

![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](/books/368291/tatyana-rozhnova-zhizn-posle-pushkina-natalya-nikol.webp)