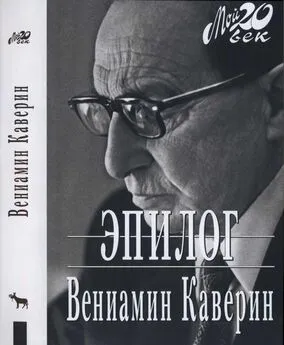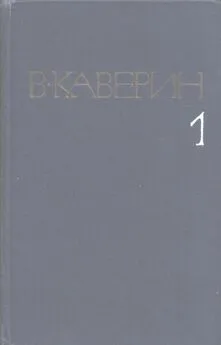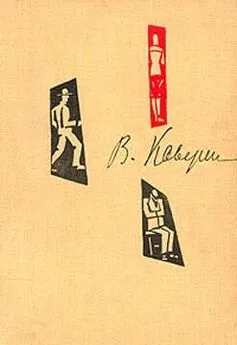Вениамин Каверин - Эпилог
- Название:Эпилог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9697-0306-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Каверин - Эпилог краткое содержание
Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.
Эпилог - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он предложил мне машину, я не отказался. Уже наступило тяжелое, туманное, предзимнее утро. Мы простились, я поднялся к себе и, побродив по холодной, вдруг опостылевшей квартире, с пустой, бесчувственной головой принялся за очередную статью для ТАСС.
Я упомянул о том, что в эти дни меня спасли только мои «Два капитана». И действительно, в конце допроса Владимир Иванович ясно дал мне понять, что именно «Два капитана» и помешали ему расправиться со мной по-свойски. Он не расспрашивал меня о друзьях, но мои догадки по поводу Тихонова впоследствии полностью подтвердились. Против Тихонова в течение ряда лет «шилось» дело, и если бы его взяли…
Трудно вообразить, что произошло бы, если бы в центре нового «шахтинского процесса» оказался человек, о котором еще в 1934 году было сказано: «Жить он будет, но петь — никогда».
О том, что «в холодный белый мрамор он будет превращен» (Гоцци), давно догадались те, кто слышал, с каким азартом он оправдывал каждый новый арест, как энергично отрекался от самого близкого «загремевшего» друга.
«По делу Тихонова» был арестован, доведен пытками до сумасшедшего дома и осужден на пять лет Н.А.Заболоцкий. В лагере он узнал, что главный обвиняемый в 1939 году награжден орденом Ленина, и дал Верховному прокурору СССР телеграмму, в которой, ссылаясь на это сообщение, просил о пересмотре дела. Когда Тихонов был назначен председателем Союза писателей, в 1943 году, я, заглянув к нему (мы оба жили в гостинице «Москва»), только заикнулся о его «деле», — как он круто и бесповоротно повернул разговор. Он знал не только то, что все уже знали…
Впрочем, бегло о нем написать нельзя. В его лице перед нами сложный пример психологической деформации, заслуживающий подробного рассмотрения.
Никто, кроме Е.Шварца, не знал, почему я стремился возможно скорее уехать из Ленинграда. Не стану притворяться смельчаком, который не боялся ни голода, ни холода, ни немцев, сбрасывавших с самолетов листовки, призывающие убивать «жидов и коммунистов». Конечно, боялся, тем более что на театральных тумбах еще сохранились обрывки афиш, объявляющих о моей пьесе «Актеры», которую смело можно было назвать антифашистской, хотя действие ее происходило на оккупированной Украине в 1918 году. Но еще больше боялся я новых допросов и ареста, казавшегося мне неизбежным.
Вот почему я благословил тот день, когда мне позвонили из горкома партии и сказали, что по распоряжению Шумилова (секретарь по агитации и пропаганде) я завтра, 10 ноября, должен явиться на аэродром в семь утра и что мой отъезд на Большую землю согласован с ТАСС.
Не стану рассказывать ни о перелете, ни о том, как случайно обменялся вещевым мешком с одним из работников конструкторского бюро секретного авиазавода, ни о том, как получил отпуск для розысков семьи, ни о том, как нашел ее в Перми — тоже случайно, благодаря знакомству (в санитарном поезде) с бригадным комиссаром Зориным. Все это — для другой книги, которую я, может быть, еще напишу. А сейчас — о другом.
После моего неожиданного отъезда в Ленинграде распространились слухи, что я уехал самовольно, из трусости, без ведома и разрешения начальства. В письмах блокадных лет могли сохраниться отзвуки этих слухов. Винить тех, кто их распространял, я не стану. Ведь они не знали, что вместе с опасностью, которую мы могли встретить с оружием в руках, я убегал от другой опасности, против которой был безоружен.
XIV. О Федине
«Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями». Мне нелегко было написать это письмо, после которого наши отношения должны были рухнуть — и рухнули навсегда, бесповоротно. Легко ссориться в молодости, когда впереди — годы перемен и мерещится среди них трудная или легкая возможность примирения. Тяжко ссориться в старости, когда грубо, непоправимо, точно взмахом колуна, отсекается то, что некогда согревало душу. Нужна какая-то каменистая, ободранная всеми ветрами вершина, чтобы, спотыкаясь, цепляясь за колючий кустарник, с трудом взобраться на нее и, прикрыв ладонью глаза, вглядеться в прошлое.
Кто же виноват? Что случилось впервые? Когда и почему повторилось?
Сущность дела заключается в том, что в течение всех этих сорока восьми лет отношения между нами были. Более того: в этих отношениях, менявшихся год от году, всегда звенела, пусть приглушенно, издалека, чуть слышно, нота молодой дружбы, искренней, бескорыстной, лишенной зависти и полной желания добра. Я знал, что ему нравится моя горячность, мое пристрастие к «алхимии» в литературе и то, что я считал «орденом» нашу маленькую фуппу, а ведь по отношению к ордену надо хранить нерушимую верность. В моих рассказах ему нравилось то, что они были выдуманы от первого до последнего слова, он всегда был близок к немецкой литературе, может быть, ему виделась «новая гофманиада».
В начале двадцатых годов он был редактором журнала «Книга и революция», и моя речь в связи со столетней годовщиной Гофмана так понравилась ему, что он даже напечатал ее, не предложив мне изменить ни слова. Что касается моего отношения к нему в начале двадцатых годов, то слово «нравиться» почти ничего не значит.
Я был влюблен в него, как влюбляются в старшего брата или друга в восемнадцать лет. И действительно, им можно было залюбоваться. Высокий блондин, широкоплечий, стройный, сразу же подкупающий вежливостью, умением подойти к собеседнику, очаровать его, найти его слабые стороны и — тоже из вежливости — притвориться, что он их не замечает: умелый спорщик, прекрасно владеющий собой, глубоко убежденный человек, — он тогда был действительно убежден в правоте своих взглядов, он производил впечатление благородной уравновешенности, если и нарушавшейся подчас, так неизменно по значительным поводам, заслуживающим внимания и уважения. Серьезностью, значительностью так и веяло от каждого его движения, каждого слова. Случалось, что он в споре загорался, большие серые глаза широко открывались, распахивались, бледное красивое лицо чуть розовело — я особенно любил его в такие минуты.
Мы придерживались мало сказать разных — прямо противоположных взглядов на литературу: я был горячим, хотя и небезоговорочным единомышленником Лунца с его призывом «На Запад!», он с первого же рассказа «Сад» заявил себя продолжателем традиции русской классической прозы. Но это ничему не мешало. Напротив, мне льстило, что тридцатилетний Федин относился к моим взглядам с уважением, хотя на серапионовских собраниях он иногда умерял мою пылкость.
В традиционность его взглядов входило тоже традиционное, характерно русское, приподнятое уважение к литературному труду Над этой приподнятостью «серапионы» слегка подсмеивались — Слонимский, делая большие глаза и поднимая указательный палец, торжественно провозглашал: «Лите-ра-ту-ра!» Но напрасно подсмеивались. Это чувство вело Федина, им проникнута его переписка с Горьким, оно связывалось с понятием призвания, оно долго окрашивало его поведение в литературных делах. Я по молодости лет пылко сражался с его традиционностью, не догадываясь, что она-то, в сущности, и была связана с его порядочностью и долго, в течение многих лет, до тех самых пор, когда эта пресловутая и даже знаменитая фединская порядочность стала позой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: