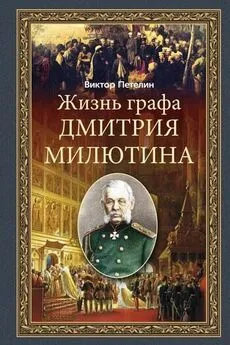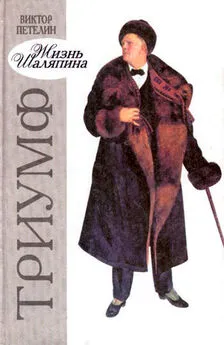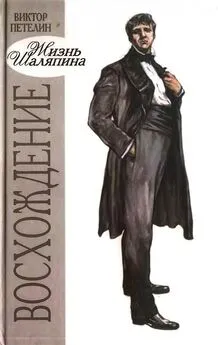Виктор Петелин - Жизнь графа Дмитрия Милютина
- Название:Жизнь графа Дмитрия Милютина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978-5-227-02458-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Петелин - Жизнь графа Дмитрия Милютина краткое содержание
Книга посвящена личности военного министра при Александре II и генерал-фельдмаршала при Николае II, крупного государственного деятеля Дмитрия Алексеевича Милютина. Граф и его единомышленники боролись за крестьянские реформы, за отмену крепостного права и за военную реформу, в ходе которой была выиграна война с Турцией за освобождение Болгарии в 1877–1878 гг. В произведении ярко показан круговорот психологических конфликтов и столкновений, характеризующий жизнь передового российского общества второй половины XIX века.
Жизнь графа Дмитрия Милютина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
26 ноября Николай Милютин и члены его комиссии прибыли в Петербург.
По предложению генерала Муравьева помещики Северо-Западного края должны были жить в своих имениях, а чтобы хоть как-то возместить огромные расходы на подавление восстания, на них был наложен контрибуционный сбор, до 18 процентов от доходов платило высшее католическое духовенство.
Через несколько дней Николай Милютин был принят императором и доложил о проекте преобразований в царстве Польском, который в основном был одобрен. В тот же день было принято решение создать комиссию под председательством князя Павла Павловича Гагарина, вскоре назначенного председателем Комитета министров, в комиссию также вошли Долгоруков, Чевкин, Зеленый, Валуев, Рейтерн, Платонов, Черкасский, Арцимович, Милютин, Самарин…
«28 декабря Государь собрал у себя для предварительного совещания некоторых лиц из числа назначенных в комиссию, – вспоминал Дмитрий Милютин, – с присоединением вице-канцлера князя Горчакова и открыл заседание заявлением своего одобрения основных начал составленных проектов. После этого, конечно, никто уже не решился возражать, кроме князя Горчакова, который сделал некоторые замечания в общих выражениях. Однако же с первых приступов к делу можно было предвидеть, что открытыми сторонниками проектированной реформы будут князь Гагарин, Чевкин, Зеленый, а противниками – Валуев и князь Горчаков. Что касается до других, то они воздерживались от заявлений своих мнений. Комиссия должна была открыть свои заседания с первых же чисел января.
Князь Горчаков хотя и не вошел в состав комиссии, однако ж в качестве министра иностранных дел должен был иметь голос в вопросе, касавшемся царства Польского. Мало знакомый с делами гражданскими и с внутренней администрацией, он обыкновенно в прениях по таким делам избегал высказывать какие-либо мнения конкретные, а ограничивался общими фразами, более или менее отвлеченными, или, как сам он говорил, «крупными чертами», «высшими взглядами». В этих громких фразах любил он пощеголять либеральным образом мыслей; но, в сущности, его либерализм имел подкладку аристократическую и помещичью. Поэтому и в крестьянском вопросе не мог он сочувствовать проекту, в основу которого положены были начала демократические. К тому же в качестве дипломата не мог он отрешиться от традиционных взглядов европейских на шляхетскую Польшу. Князь Горчаков принадлежал к числу тех тщеславных людей, которые очень легко поддаются лести и обольщениям, а поляки имели ловких ходатаев в том круге петербургского общества, в котором вращался князь Горчаков.
Эта наклонность к интересам польской аристократии нисколько не вредила огромной популярности, которую князь Горчаков приобрел своими знаменитыми дипломатическими нотами; напротив того, некоторым образом даже возвышала его в той части общества, которая не примирилась еще с уничтожением крепостничества. Впрочем, такие тонкости в оценке личности и недоступны массе, создающей популярности; поэтому и князь Горчаков, и М.Н. Муравьев сделались в это время равно популярными, несмотря на то что два эти героя дня не имели в себе ничего общего, что между их политическими воззрениями лежала целая пропасть. Как тот, так и другой продолжали получать беспрестанные заявления сочувствия от горячих патриотов; не проходило обеда, пира, торжества без тостов и речей в честь обоих. К концу же года начали присоединять к ним и графа Берга: так, на обеде в Московском университете в честь ректора Баршева, 21 ноября, провозглашены были тосты за всех троих и посланы им три телеграммы».
Так менялась обстановка либерализма годичной давности, Польский мятеж, беспощадность мятежников к русским солдатам, к крестьянству, не поддержавшему мятежников, постепенно сменялась осознанием русского национализма, осознанием интересов русского народа как целого и независимого от кого бы то ни было. Последнее время в русском обществе господствовали идеи Герцена, они действовали на русское общество расслабляюще, возникло целое движение полонофильства, в том числе и при императорском дворе, и никто не противостоял этому, князь Горчаков, министр внутренних дел Валуев не раз бросали фразы в пользу освобождения Польши, чтобы угодить Герцену, польским вождям в Париже, чтобы угодить царствовавшему духу либерализма.
Как раз в это время, когда 70-миллионное крестьянское население, только получив освобождение от крепостничества и почувствовав себя свободными, тут же получило еще одно испытание: торговцы добились введения питейной реформы, якобы улучшив качество и удешевив водку, то есть крестьяне получили, по выражению современников, дешевый кабак, куда и потянулись свободные крестьяне, но «стихийного разгула народных страстей около кабака, из-за кабака и в кабаке, на который так рассчитывали наши тайные враги порядка и правительства, никакого не случилось…
– Этим русский народ обманывает все наши расчеты, – сказал мне однажды Огрицко с выражением искреннего разочарования…» – вспоминал князь Мещерский то время, упоминая и про Огрицко, польского студента, который, убежав с царской службы и примкнув к восставшим полякам, был строго наказан правительством России после подавления мятежа.
И еще одно замечание из воспоминаний князя Мещерского: министр Валуев ничего не сделал, чтобы укрепить полицейские силы в деревнях и селах: «По уезду полицейская сила изображалась одним исправником и двумя-тремя становыми и затем при известном количестве сотских, оставленных в распоряжении становых приставов».
Валуев ничего не сделал против питейной реформы, ничего не сделал, чтобы увеличить полицейские силы, ведь необходимо было следить за порядком в этот переломный момент русской жизни, но все время докучал императору своими предложениями ограничения императорской власти, писал Александру Второму, склонному к реформам, что с началом Польского мятежа необходима конституция и необходимо преобразовать Государственный совет России на началах австрийского парламента, нужны дальнейшие реформы, но император отмалчивался. Валуев видел неопределенность положения русского правительства, тревожил внутренний разлад, признаки разложения, а тут еще обещания французского императора вмешаться в русско-польские распри и помочь Польше в решении ее главного вопроса. Посыпались грозные дипломатические депеши от трех европейских держав, угрожавшие военным вмешательством, но князь Горчаков в блестящей форме отвел все угрозы военного вмешательства. «Но можем ли мы с такими пороками в правительстве вступить в борьбу против Европы? Я вижу наших ничтожных деятелей? Можно ли с ними надеяться на успех? В начавшихся собраниях дворянства обсуждалось много вопросов, поднимался и вопрос о форме правления в государстве, но ни одного голоса не прозвучало в защиту абсолютной монархии, об этом говорил императору князь Долгоруков, об этом говорил и я, но император помалкивает, а зря, – думал Валуев. – Да, появился Муравьев, Берг, Николай Милютин и его команда, пытаются что-то сделать в форме абсолютного самодержавия, по каждому поводу бегут согласовывать то или иное предложение… А почему?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: