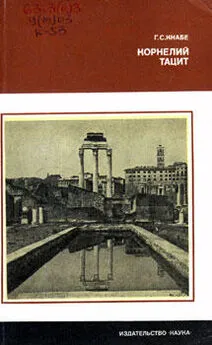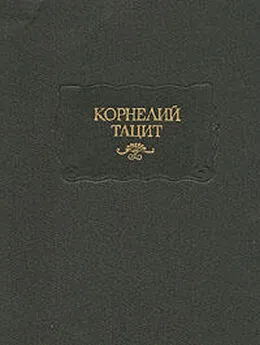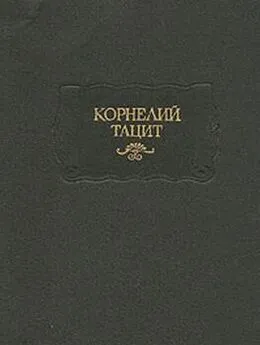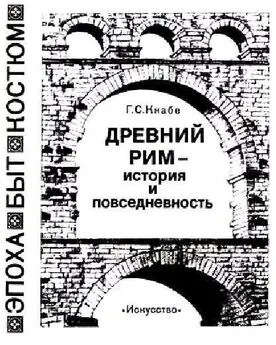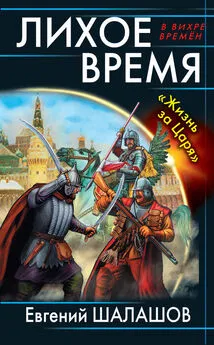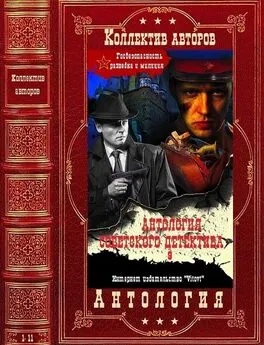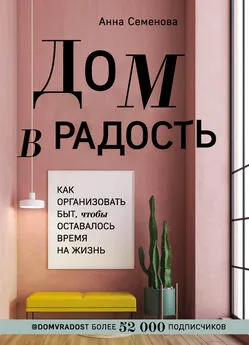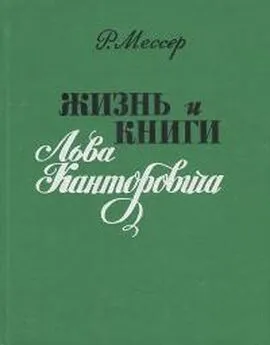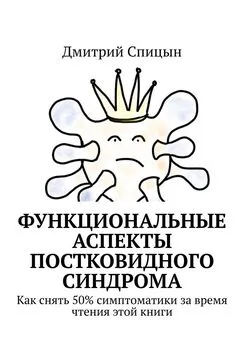Георгий Кнабе - Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )
- Название:Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги )
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1981
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Кнабе - Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги ) краткое содержание
Книга посвящена жизни и творчеству крупнейшего римского историка и писателя Корнелия Тацита. Давая широкую картину жизни императорского Рима I–II вв., автор анализирует сложные социальные процессы, распад прежней системы ценностей и показывает, как это отражалось в судьбе, общественном поведении и психологии конкретных людей.
Корнелий Тацит: (Время. Жизнь. Книги ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3. Проблема «остатка» в «Жизнеописании Агриколы». Уже во вступительных главах к разбираемому сочинению обращает на себя внимание противоречие, которое вводит нас в самую суть образа Агриколы. Тацит говорит здесь о том, что цель его сочинения — прославить доблесть своего героя. Между тем, как бы ни менялось на протяжении I в. содержание римской «доблести», главным в этом понятии всегда было и оставалось нравственно бескомпромиссное и действенное отношение к жизни государства; «добродетели» же, virtutes, Агриколы, которые Тацит решил сделать исходным пунктом всего своего повествования о пережитой эпохе, такой общепонятной «доблести» явно не соответствовали. Главное в Агриколе — в полной противоположности с традиционным образом героя биографической литературы — сознательный отказ от громкой славы, готовность к компромиссу, а нередко — и сознательная пассивность. «В ранней молодости… его возвышенный и порывистый ум и в самом деле домогался с неосмотрительной и безрассудной страстностью великолепного блеска огромной и всезатмевающей славы. Но размышления и годы в дальнейшем его образумили, и он, что труднее всего, удержался в пределах мудрой умеренности» (4, 3). [135] Здесь и далее малые произведения Тацита цитируются в переводе А. С. Бобовича (в кн.: Корнелий Тацит . Сочинения в двух томах. Л., 1969, т. 1).
После победоносного завершения британской кампании Домициан, по словам Тацита, завидовал Агриколе и ненавидел его. Последний полностью отдавал себе в этом отчет, но вывод для него был только один — не выделяться, стать неприметным, слиться и раствориться. Вернувшись в Рим, он «замешался в толпу раболепных придворных» и не стал «отягощать праздных людей, среди которых оказался, своей славой военачальника» (40, 3; 4).
Такая жизненная установка делала неприемлемыми для Агриколы не только стремление выделиться и добиться громкой славы при дворе, но и противоположный путь — стоическую оппозицию принцепсам. Разоблачение последней как слишком внешнего и громогласного геройствования, несовместимого со скромным и «человекосоразмерным» мироотношением Агриколы, — один из лейтмотивов книги. Он звучит не только в прямых выпадах против тех, кто «снискал славу своей впечатляющей, но бесполезной для государства смертью» (42, 4), не только в прямых противопоставлениях Агриколы, «не искавшего славы», тем, кто «искушает судьбу непреклонностью и выставлением напоказ своей независимости» (42, 3), но и в скрытых в тексте намеках. Так, характеризуя трибунат Агриколы, Тацит пишет, что тот провел этот год «в покое и в стороне от общественных дел, ибо знал, что в условиях Неронова правления бездеятельность была заменой мудрости» (6, 3). Слово «мудрость» (sapientia) было обозначением именно философского, стоического идеала поведения, и предпочтение ему безделья придавало всей ситуации иронический и антистоический характер. Такой же намек на аффектированную суровость стоиков скрыт в указании на сдержанность Агриколы при оплакивании умершего сына: «это несчастье он перенес без показной стойкости, которой тщеславятся многие доблестные мужи» (29, 1).
Неудивительно, что выбор человека такого облика в качестве героя биографического сочинения требовал оправдания. Оно состояло для Тацита прежде всего в верности жизненной правде. Агрикола, как и сам Тацит, принадлежал к той эпохе, когда несводимость человека к его прямой и практической государственной деятельности стала аксиомой. К этому вела вся логика развития римской гражданской общины в эпоху Ранней империи, на это указывала эволюция биографического жанра, таков был итог двадцати лет магистратской деятельности Тацита. В центр его исторического труда должна была встать о самого начала не героическая фикция, а живая современная личность. Отсюда — та особая палитра, с которой Тацит брал краски для изображения своего героя, призванного воплотить не риторическое, старомодное и ходульное величие, а новое — скромное, человечное, раздумчивое достоинство. Скромность Агриколы, явствовавшая и из рассказанных Тацитом фактов, и из прямых авторских оценок, призвана была контрастировать с пламенным честолюбием вечно добивавшихся триумфов и почестей полководцев былых времен, как его человечность, мягкость, подверженность горестям и страданиям — оттенять свирепую суровость «нравов предков». Назначенный командиром мятежного XX легиона «и получив предписание наказать непокорных, Агрикола проявил исключительную умеренность и предпочел сделать вид, будто нашел воинов готовыми к повиновению, а не принудил их стать таковыми» (7, 3). Слова эти заставляли вспомнить расправы Германика, зверства Корбулона, массовые казни солдат при Гальбе, вспомнить всех подражателей «полководцам древних времен». Даже внешность Агриколы, «скорее приятная, чем внушительная», с чертами лица, в которых «не было ничего властного и которые неизменно выражали лишь благожелательность» (44, 2), была нарушением канона молодости, красоты и величия, которые по традиции так ценила в государственных руководителях римская толпа.
В изображении Тацита Агрикола отличался той новой особенностью, которую мы договорились условно называть «остатком». Ключевая фраза в этом смысле — 44,3: «Ведь по достижении им истинных благ, которые покоятся в добродетелях, а также консульских и триумфальных отличий, чем еще могла бы одарить его судьба?» Слова об «истинных благах», противопоставленных благам внешним и несущественным, представляли собой распространенную философскую формулу, прекрасно известную Тациту и бывшую на слуху у его читателей. Повторяя ее, Тацит подчеркивал, что для его героя почетные результаты его государственной деятельности были чем-то ценным, но внешним, посторонним главному, внутреннему, духовному содержанию его жизни. В чем же тогда заключалось это содержание? Оно раскрывается в следующих же фразах, где перечисляется, чего реально достиг Агрикола и что тем самым и составляло для него «истинные блага»: состояние, не чрезмерное или огромное, но значительное; близость жены и дочери, родных и друзей; покой в сочетании с достоинством. Истинным благом, другими словами, явилась для Агриколы реализация его ранее изложенной жизненной программы: человекосоразмерность жизненной задачи; доброта и добросовестность; скромность, умеренность и податливость; умение спастись и спасти своих без вреда для других и активной подлости.
Эта программа предполагала невыявляемые в общественной деятельности ресурсы личности, особое, не карьерное, но и не стоическое упорство, своего рода мудрость, выражающуюся в самоограничении и умеренности. О «мудрости» Агриколы Тацит упоминает довольно часто — слишком часто для характеристики героя, действительно простого и подлинно немудрящего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: