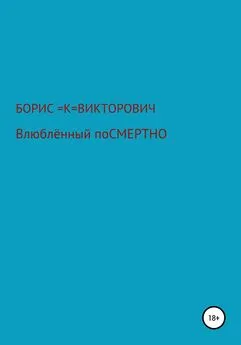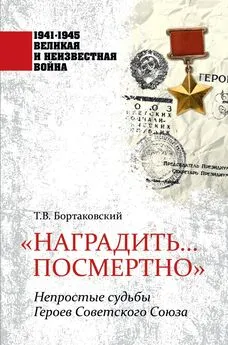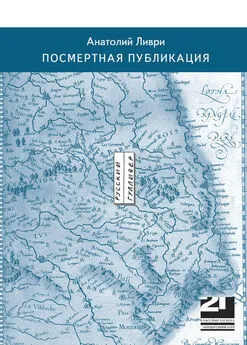Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый
- Название:Посмертно подсудимый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-03724-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый краткое содержание
В книге рассматриваются материалы следствия и суда по делу о последней и трагической дуэли Пушкина. Это протоколы допросов Дантеса, Данзаса и Вяземского и документы, проливающие свет на причины и обстоятельства роковой дуэли. Выясняются пробелы следствия и суда, правомерность вынесения всем подсудимым (в том числе и скончавшемуся к этому времени поэту) смертного приговора. Особое место занимают в работе вопросы тайного и гласного надзора за Пушкиным со стороны полиции и жандармерии.
Для широкого круга читателей.
Посмертно подсудимый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
21 апреля 1828 г. – просьба о разрешении поехать в Париж и об издании ранее «уже напечатанных» стихотворений. Бенкендорф не счел нужным доводить до царя первую просьбу (она явно превышала «возможности» царских милостей), и Пушкин ни в Париж, ни вообще куда-либо за границу поехать не смог (10, 245–246).
Вторая половина августа 1828 года (черновой вариант) – объяснение по поводу требования петербургского обер-полицмейстера об отобрании у Пушкина подписки относительно того, что он не будет писать вредные «богохульные сочинения» подобно «Гаврилиаде»: «…вследствие высочайшего повеления господин обер-полицмейстер требовал от меня подписки в том, что я впредь без предварительной обычной цензуры… Повинуюсь священной для меня воле; тем не менее прискорбна мне сия мера. Государь император в минуту для меня незабвенную изволил освободить меня от цензуры, я дал честное слово государю, которому изменить я не могу, не говоря уже о чести дворянина, но и по глубокой, искренней моей привязанности к царю и человеку. Требование полицейской подписки унижает меня в собственных моих глазах, и я, твердо чувствую, того не заслуживаю, и дал бы и в том честное мое слово, если б я смел еще надеяться, что оно имеет свою цену. Что касается до цензуры, если государю императору угодно уничтожить милость, мне оказанную, то, с горечью приемля знак царственного гнева, прошу Ваше превосходительство разрешить мне, как надлежит мне впредь поступать с моими сочинениями, которые, как Вам известно, составляют одно мое имущество» (10, 249). Поэт настойчиво продолжает бороться хотя бы за свою относительную независимость. Ну, допустим, царь, ну глава всемогущественного III Отделения – все это, как говорится, куда ни шло, от этого никуда не деться, но примириться с тем, что наряду с императорско-бенкендорфским надзором существует еще и обер-полицмейстерский литературный (!) надзор, это уже ни в какие ворота не лезет. Поэт видит отсутствие всякой логики и в многоступенчатости цензурного над собой надзора. Если цензор – царь, то зачем обычная цензура? А если цензура обычная, то не означает ли это, что царь берет свое слово (быть цензором Пушкина) назад?
10 ноября 1829 г. – объяснение по поводу своего путешествия в Арзрум: «С глубочайшим прискорбием я только узнал, что его величество недоволен моим путешествием в Арзрум… Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво…» (10, 801).
7 января 1830 г. – с просьбой о разрешении путешествия во Францию или Италию или посещения Китая с дипломатической миссией и о напечатании «Бориса Годунова». О неудаче предшествующих попыток «испросить» царского согласия на эти заграничные путешествия уже говорилось.
Что же касается второй просьбы, то «Борис Годунов» с рядом цензурных исправлений и изъятий вышел в свет в декабре 1830 года (10, 802).
18 января 1830 г. – ответ о получении отказа на поездку за границу и о хлопотах в пользу семейства героя войны 1812 г. H. Н. Раевского (последние были удовлетворены) (10, 803).
21 марта 1830 г. – ответ на письмо Бенкендорфа с выговором поэту за его поездку в Москву. Это был ответ Пушкина на уже упоминавшуюся угрозу шефа жандармов, высказанную поэту в письме от 17 марта 1830 г. (10, 275).
24 марта 1830 г. – это письмо касается трех вопросов.
1) Пушкин вновь возвращается к предыдущему письму Бенкендорфа с его полицейским выговором и угрозой. Поэт по-прежнему ставит вопрос о доверии к нему со стороны правительства («…Несмотря на четыре года уравновешенного поведения, я не приобрел доверия власти. С горечью вижу, что малейшие мои поступки вызывают подозрения и недоброжелательство»); 2) О своих отношениях с Булгариным («…Г-н Булгарин, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов из-за одного приписанного им мне критического отзыва. После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла») (10, 807). Пушкин имеет в виду здесь булгаринский пасквиль на него, помещенный в «Северной пчеле» (1830, № 30). Поэт знал, что к этому времени Булгарин был уже на службе III Отделения, и считал необходимым как бы обезопасить себя в глазах III Отделения. Разумеется, для того чтобы говорить об агентуре самого Бенкендорфа, нужна была по тем временам достаточная смелость; 3) Поэт просил разрешения на поездку в Полтаву для встречи со своим другом Николаем Раевским-младшим. На письме Пушкина имеется помета Бенкендорфа: «Отвечать ему, что Булгарин никогда не говорил мне о нем – по той простой причине, что я вижу его 2–3 раза в год, и то лишь для того, чтобы побранить, а один раз и для того, чтобы отправить его на гауптвахту. Что его, Пушкина, положение вовсе не непрочно, но что действительно его последний крайне поспешный отъезд в Москву не мог не возбудить подозрений». [153]На просьбу же встретиться с Раевским, разумеется, последовал отказ.
16 апреля 1830 г. – о своей предстоящей женитьбе и вновь о напечатании «Бориса Годунова»: «…я женюсь на м-ль Гончаровой… Я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное положение и мое положение относительно правительства. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно… Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя…» (10, 810).
В ответном письме от 28 апреля 1830 г. шеф жандармов лицемерно писал, что в положении Пушкина нет «ничего ни фальшивого, ни сомнительного» и что царь «с истинно отеческим благословением» к Пушкину поручил Бенкендорфу «не как шефу жандармов, но как человеку… наблюдать» за поэтом «и руководить его советами». Такой ответ не мог не удовлетворить Н. И. Гончарову. Однако и женитьба поэта не обошлась без вмешательства полиции. А. Я. Булгаков, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, а впоследствии московский почтовый директор, так описывал венчание Пушкина в своем письме от 19 февраля 1830 г. сыну (К. А. Булгакову): «…их (т. е. Пушкиных. – А. Н. ) обвенчали… у Старого Вознесения. Никого не велено было пускать, и полиция была для того у дверей…». [154]Чего же боялась полиция?
В том же письме Пушкин вновь возвращается к вопросу о напечатании без исправлений «Бориса Годунова»: «Прошу еще об одной милости: в 1826 году я привез в Москву написанную в ссылке трагедию о Годунове… Государь, соблаговолив прочесть ее, сделал мне несколько замечаний о местах слишком вольных… Его внимание привлекли также два или три места, потому что они, казалось, являлись намеками на события, в то время еще недавние; перечитывая теперь эти места, я сомневаюсь, чтобы их можно было бы истолковать в таком смысле. Все смуты похожи одна на другую… Но нынешними обстоятельствами я вынужден умолять его величество развязать мне руки и позволить мне напечатать трагедию в том виде, как я считаю нужным» (10, 811). И в этом случае приходится удивляться и настойчивости поэта, и его мужеству. Царская цензура – сама по себе, а поэт оказался вне ее, сильнее императорских литературных амбиций и ограничений. Николай I разрешил напечатать «Бориса Годунова» под «личную ответственность» Пушкина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
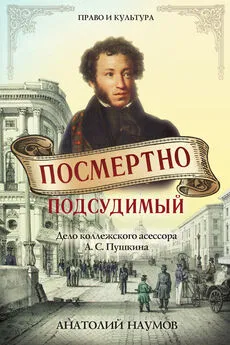

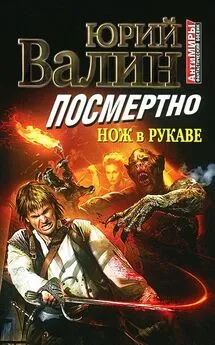
![Светлана Гырылова - Босая в зеркале. Помилуйте посмертно! [Роман-дилогия]](/books/1073789/svetlana-gyrylova-bosaya-v-zerkale-pomilujte-posmertno-roman-dilogiya.webp)
![Анатолий Наумов - Голубая мечта [Юмористическая повесть в эпизодах]](/books/1093668/anatolij-naumov-golubaya-mechta-yumoristicheskaya-pove.webp)