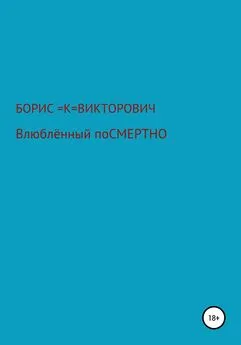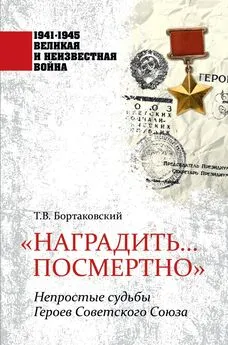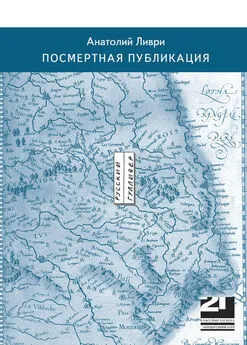Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый
- Название:Посмертно подсудимый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-03724-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Наумов - Посмертно подсудимый краткое содержание
В книге рассматриваются материалы следствия и суда по делу о последней и трагической дуэли Пушкина. Это протоколы допросов Дантеса, Данзаса и Вяземского и документы, проливающие свет на причины и обстоятельства роковой дуэли. Выясняются пробелы следствия и суда, правомерность вынесения всем подсудимым (в том числе и скончавшемуся к этому времени поэту) смертного приговора. Особое место занимают в работе вопросы тайного и гласного надзора за Пушкиным со стороны полиции и жандармерии.
Для широкого круга читателей.
Посмертно подсудимый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» творческий метод автора таков же, как и в статье о Радищеве. Вся статья внешне построена на споре автора с Радищевым. Однако вопрос в том, в чем заключается спор, о чем он, в чем различие позиции автора статьи и позиции «бунтовщика»? Очень часто спор с Радищевым для Пушкина лишь отправная точка. Так, особенно спорит он с автором «Путешествия…» по вопросам, касающимся рассуждений Радищева о Москве, о Ломоносове, о российском стихосложении, о цензуре. Во всех этих случаях Пушкин как бы даже «забывает» о споре и использует полемическое начало, по сути дела, для выражения собственных мыслей, собственного взгляда на соответствующие предметы. Следует особо остановиться на пушкинском комментировании радищевских глав «Медное (рабство)» и «Шлюзы». В первой Радищев возмущается торговлей помещиков своими крепостными крестьянами, по сути работорговлей. Спорит ли с ним Пушкин? Вовсе нет. Вместо спора он прерывает цитату Радищева следующими собственными словами: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях… с которым на сей раз соглашаюсь поневоле…» (7, 299). В главе «Шлюзы» Радищев рисует жуткую картину жестокого обращения помещиков со своими крепостными, доводя их до полуголодного существования. И опять-таки вместо спора с Радищевым или возражением ему Пушкин приводит пример современного ему помещика, который подобным же жестоким отношением довел своих крестьян до того, что был убит ими. Тут уж нет и подобия спора, а есть полное согласие с Радищевым.
Конечно же основной целью пушкинских статей о Радищеве был не спор с ним. Следует согласиться с мнением о том, что «Пушкин имел в виду привлечь общественное мнение к вопросу о крепостничестве и соглашался с Радищевым в его гневных разоблачениях жестокости и произвола помещиков, разделяя в данном вопросе его убеждения». [296]Почти все осуждающие замечания Пушкина относительно Радищева и его книги – это всего лишь метод «усыпления» бдительности цензуры. Метод, по современным представлениям, довольно наивный и, как показал опыт со статьей «Александр Радищев», для самого автора явно неудачный.
Вместе с тем в вопросе относительно методов преобразования русской жизни Пушкин спорил с Радищевым по-настоящему. И для того и для другого крепостное рабство было ненавистно. Но Радищев был «за» крестьянскую революцию, Пушкин же, как известно, не был революционером и отвергал крестьянский бунт как «бессмысленный и беспощадный». Свое несогласие с Радищевым поэт мотивировал и тем, что, по его мнению, в результате буржуазной революции XVIII века народ ничего не добился, кроме новых форм угнетения и эксплуатации. Об этом Пушкин писал в главе «Русская изба» своего «Путешествия…» и пытался доказать, что судьба русского крепостного крестьянина предпочтительнее положения, например, английских фабричных рабочих.
Не будем, однако, преувеличивать серьезности этого спора. В черновом варианте «Памятника» – этого своего рода поэтического и политического завещания поэта он не только не спорит с Радищевым, но одной из главных заслуг своей поэзии считает то, что «вслед Радищеву восславил» он «свободу».
Анализ мировоззрения поэта как твердого государственника невозможен и без привлечения поэтического выражения его взглядов на эту тему, выраженных в «Медном всаднике». В литературоведении эти взгляды толкуются неоднозначно. По крайней мере, выделяются три, на первый взгляд не совсем соответствующие друг другу позиции. Во-первых, концепция обоснования приоритета государства и государственных интересов (в лице Петра I) перед интересами личности (В. Г. Белинский, Д. С. Мережковский, Б. М. Энгельгардт, Г. А. Гуковский, Л. П. Гроссман и др.). Во-вторых, наоборот, стремление увидеть в творческим замысле поэта попытку встать на сторону бедного Евгения, выраженное в работах В. Я. Брюсова, Г. П. Макагоненко, И. М. Тойбина и др. («гуманистическая» концепция). Наконец, в-третьих, трактовка поэмы как «трагической неразрешимости конфликта» между государством и личностью (С. М. Бонди, Е. А. Маймин, M. Н. Энштейн). [297]
Тем не менее все эти, столь различные подходы к трактовке поэмы вполне имеют право на существование, поскольку следы каждого из них совсем нетрудно отыскать в ней. Вряд ли можно отрицать то, что поэт воспевает как подвиг Петра создание им великого города как форпоста России на Балтике и как прекрасной в своем величии и архитектуре столицы и в целом как удивительно мудрое решение, отразившее высшие интересы российского государства. Точно так же совсем нетрудно разглядеть в поэме и искреннее сочувствие поэта «бедному» Евгению как простому человеку, объективно ставшему жертвой высоких государственных интересов прообраза Медного всадника. В принципе проблема «маленького» человека в русской литературе возникла не с гоголевской «Шинели» (1839) и не с «Бедных людей» Достоевского (1846), а именно с образа Евгения в «Медном всаднике». Не выкинуть из поэмы и действительно трагического противоречия между высокими государственными интересами и отдельной личностью, формально не разрешенного поэтом. То есть в поэме можно найти и первое, и второе, и третье. И вместе с тем, думается, что в целом поэма, констатируя наличие возможного трагического направления между интересами государства и личности, как бы подводит читателя к единственному варианту разрешения такого противоречия. Мощь государства должна предполагать, что она может «раздавить» (в том числе и физически) отдельную личность. Однако оно (государство) должно, обязано обратить свою мощь не на погибель личности, а на ее поддержку. И здесь Пушкин конечно же остается государственником, но не ограничивающимся констатацией противоречия между государством и личностью, а вкладывающим в констатацию этого противоречия свое представление о возможном его преодолении, о том, что государственная мощь не должна своей тяжестью «давить» на личность, а должна учитывать и ее интересы. В связи с этим можно вспомнить слова Ю. М. Лотмана (сказанные им по другому поводу), что поэт стремился «приподняться над жестоким веком», сохранив «гуманность, человеческое достоинство и уважение к жизни других людей». [298]
Внимательное изучение государственно-политических взглядов поэта позволяет объективно оценить и силу и масштаб его таланта как мыслителя и политика. И не только в теоретическом, но и сугубо практическом плане. Да, Пушкин в отличие, например, от Державина и Дмитриева (в России) или Гёте (в Германии) не был министром. Однако несомненно, что он способен и готов был быть государственным деятелем самого высокого ранга. Сошлемся на авторитетные мнения насчет этого близко знавших его современников. Так, после известного разговора с поэтом в Чудовом монастыре Московского кремля (это была первая встреча с царем) Николай I подозвал к себе Блудова и сказал ему: «Знаешь, что нынче говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай назвал имя Пушкина. [299]Жуковский замечал, что «когда Пушкину было восемнадцать лет, он думал как тридцатилетний человек». [300]Баратынский вскоре после смерти поэта, разбирая его письма, писал одному из своих друзей: «Можешь себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих письмах. Обилие мыслей. Пушкин – мыслитель. Можно ли было ожидать». [301]Мицкевич писал в некрологе о Пушкине: «Когда он говорил о вопросах иностранной и отечественной политики, можно было думать, что слышишь заматерелого в государственных делах человека». [302]Наконец, французский посол де Барант (не раз встречавшийся с поэтом) утверждал, что тот – «важный мыслитель» и что «он мыслит как опытный государственный муж». [303]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
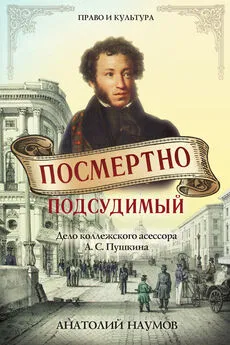

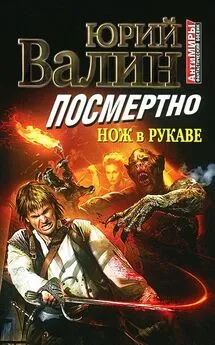
![Светлана Гырылова - Босая в зеркале. Помилуйте посмертно! [Роман-дилогия]](/books/1073789/svetlana-gyrylova-bosaya-v-zerkale-pomilujte-posmertno-roman-dilogiya.webp)
![Анатолий Наумов - Голубая мечта [Юмористическая повесть в эпизодах]](/books/1093668/anatolij-naumov-golubaya-mechta-yumoristicheskaya-pove.webp)