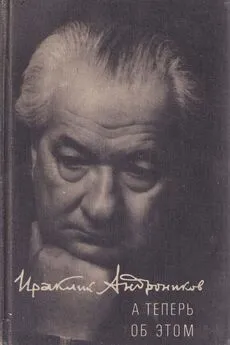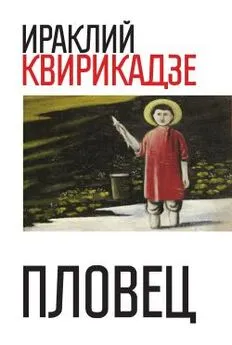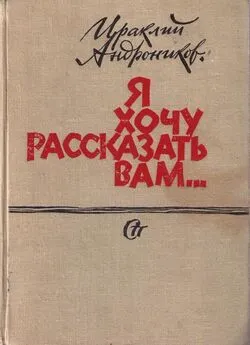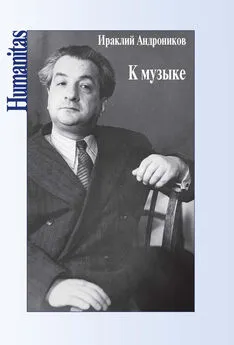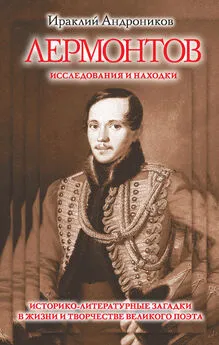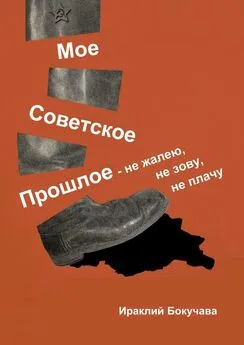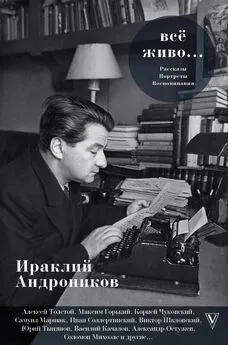Ираклий Андроников - А теперь об этом
- Название:А теперь об этом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ираклий Андроников - А теперь об этом краткое содержание
Книга И.Андроникова отражает все многообразие творческой личности автора, который предстает в ней и как мастер художественного слова, и как критик, публицист, мемуарист, историк литературы, и как знаток музыки и живописи. Это статьи и воспоминания о Заболоцком, Тынянове, А.Толстом, Т.Табидзе, Маршаке, Гамзатове, Качалове и многих других наших писателях, актерах и художниках.
А теперь об этом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И многие студенты беззвучно шевелили губами, произнося эти стихи про себя. Тихоновские строчки афористичны, запоминались, становились формулами, цитировались, входили в поэтический обиход:
Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед…
Это стихи из его первых сборников «Орда» и «Брага». Мало кто в русской поэзии начинал так, как начинал Тихонов. Затем последовали «Поиски героя», «Юрга», «Стихи о Кахетии».
В 1935 году Тихонов побывал в Польше, в Австрии, во Франции, Бельгии, Англии. Над Германией распростерлась фашистская свастика, но Европа жила еще мирной жизнью. Но Тихонов остро почувствовал канун катастрофы и написал об этом стихи «Тень друга»:
Как будто весь воздух иссвистан плетьми,
Молчанье металла — над людьми…
Вообще поэзии Тихонова присуще острое ощущение жизни — своей страны, и других народов, и целого мира. И правота его подтверждается ходом времени. В ту пору в «Тени друга» часть критиков увидела необоснованное преувеличение и не услышала приближающегося гула войны.
Говоря о Тихонове, прежде всего имеют в виду его поэтическую работу. Но не в меньшей мере Тихонов — мастер прозы. Рассказы «Военные кони», «Вамбери», «Кавалькада», «Мост у Аттока», сборники «Вечный транзит», «Белое чудо», «Шесть колонн», мемуары принадлежат замечательному прозаику. Я далек от мысли, что все тихоновские рассказы документальны. Нет, только часть. Но и в основе других угадываются реальные события, реальные дела и чувства современников Тихонова и его самого, «взятые крупно» и оживленные пылким воображением.
Особое место занимают его «Ленинградские рассказы», созданные во время ленинградской блокады, в осажденном городе, печатавшиеся в нашей центральной прессе и с потрясающей силой показавшие всему миру подвиг великого города. Я помню, как мы читали их на Калининском фронте. Без громких слов, без патетики, с целомудренной сдержанностью рассказывает Тихонов, как люди умирают, но не сдаются и великий город стоит. Значительна каждая фраза.
Вот из рассказа о девушке, вытаскивавшей людей из-под обломков разрушенных зданий:
«При лунном свете она увидела, как высоко над грудой рухнувших этажей, точно в воздухе, стоит женщина в одной рубашке, прижавшись к остатку стены, в углу, случайно уцелевшем на пятом этаже. Женщина стояла как статуя, как мертвая, упершись руками в куски стены справа и слева. И Поля смотрела, не отрываясь, на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда достать и как это сделать».
Описывая блокированный город, Тихонов изображает не только подвиги ленинградцев, но и сам Ленинград в его суровом величии. Оно подчеркнуто сравнением города с горами Кавказа:
«Снежные карнизы висят, как на леднике, и город походить стал на горный хребет — весь завален снегом, дома темные, как скалы, и все как осветится взрывом, вспыхнут пожары. И видишь, где что горит».
Кроме рассказов Тихонов создал в ту пору замечательную поэму «Киров с нами», книгу стихов «Огненный год» и за девятьсот дней ленинградской битвы написал больше тысячи очерков, обращений, заметок, статей… Имя его вписано в историю ленинградского подвига и слито с Ленинградом навеки.
Я познакомился с Тихоновым в 30-х годах, когда еще жил в Ленинграде. Не раз ездил с ним по Грузии. Встречал его на Эльбрусе. И вот уже более тридцати лет бываю у него в его московской квартире или на даче. Дом его всегда полон. Кого только я не встречал там — писатели, ученые, художники, летчики, именитые и менее именитые. И вовсе не именитые, а просто старинные друзья Тихоновых, потому что Тихонов и жена его Мария Константиновна, недавно от нас ушедшая, всю жизнь были верными друзьями своих друзей и дом их особенный. Сюда приходят по душевной потребности, потому что здесь хорошо, интересно, сердечно. И беседа с Марией Константиновной — талантливой, тонкой, широкообразованной (мало кто мог сравниться с ней в знании русской и европейской поэзии!), — беседа с ней и с Николаем Семеновичем — это беседа всегда увлекательная и творческая, временами сопровождающаяся чтением новых тихоновских стихов.
Отец Марии Константиновны К. Ф. Неслуховский был преподавателем петербургского пехотного юнкерского училища. В его квартире на Гребецкой улице, 9/5 с осени 1906 года до начала 1907-го работал Владимир Ильич Ленин и происходили совещания членов ЦК РСДРП. В эту семью в 1921 году вошел молодой красноармеец Николай Тихонов. При очень разных характерах Николай Семенович и Мария Константиновна были едины в восприятии жизни, людей и поэзии. Во время блокады она была неразлучна с ним. Жить для других, а не для себя всегда было для обоих законом. И в стихотворении, посвященном жене, Тихонов говорит:
…в нашем пути непростом
Мы отдали главное людям,
И мы не жалеем о том.
Многое я еще не сказал о Николае Семеновиче — о его украинских и югославских стихах, о пакистанских, афганистанских и о тех, что озаглавлены «На Втором Всемирном конгрессе мира», не сказал о замечательной «Палатке под Выборгом»… Но ведь это не последовательный рассказ — это наплывы стихов и воспоминаний, желание присоединиться к нашему общему торжеству и сказать в юбилейные дни хоть несколько слов о героической жизни Николая Семеновича Тихонова, о его поэзии — героической и лирической, о великой судьбе поэта, который говорит, и говорит так прекрасно, о самом главном, ради чего мы живем.
ГЕОРГИИ ЛЕОНИДЗЕ И ЕГО СТИХ
Если не стареют стихи, не стареет в нашем представлении и сам поэт. Не знаю, может быть, это истина старая, но мне она кажется новой, потому что она вошла в наше сознание через строки замечательного грузинского поэта Георгия Леонидзе, великолепно переведенные Николаем Тихоновым:
И в стихи твои просится рев, грозя,—
Десять тысяч рек в ожидании.
Стих и юность — их разделить нельзя,
Их одним чеканом чеканили.
Пусть идут годы. Эти стихи не стареют, и не стареть самому Леонидзе. Его юность и его стих нерасторжимы. Иной биографии, кроме поэтической, у него нет. Он воплотился в строчках своих стихов. Относя к нему слова Пушкина, можно сказать, что он исповедался в них невольно, увлеченный восторгом поэзии.
Печататься Леонидзе начал с десятилетнего возраста. Он родился, чтобы стать поэтом. Первые годы вошли в его стихи как тема, как материал, как неумирающая свежесть первого впечатления, когда в сверкании кахетинской весны, в цветении садов, в море красок раскрылся перед ним мир, возвеличенный цепью Гомборских гор и развалинами древних твердынь, мир, оживленный грузинской речью, сверканием плуга, скрипом арбы…
В тринадцатилетнем возрасте — в то время он учился в Тбилиси — его напутствовал великий Важа-Пшавела, который в ответ на отроческое послание написал свое — «К Георгию Леонидзе» и пожелал молодому поэту излучать горячий свет в мужественных и сильных стихах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: