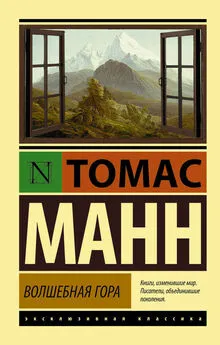Томас Манн - Путь на Волшебную гору
- Название:Путь на Волшебную гору
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Варгиус
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978–5-9697–0553–1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Манн - Путь на Волшебную гору краткое содержание
Выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн (1875–1955) — автор романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», тетралогии «Иосиф и его братья». В том мемуарной и публицистической прозы Томаса Манна включены его воспоминания — «Детские игры», «Очерк моей жизни», отрывки из книги «Рассуждения аполитичного», статьи, посвященные творчеству великих немецких и русских писателей. Выстроенные в хронологическом порядке, они дают представление об эволюции творчества и мировоззрения этого ярчайшего представителя немецкой культуры двадцатого столетия.
Путь на Волшебную гору - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Какая аргументация! Если пределы прогресса в бесконечности, то и цели его неопределенны. «Жить и не знать определенно, для чего живешь ! Пусть! Но это “не знать” не так скучно, как ваше “знать”. Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой, иду и иду, не зная определенно, куда иду, но, право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить; а вы знаете, ради чего живете, — ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить — неужели не противно?.. Надо думать о том великом иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем».
Хотя Благово говорит горячо, истово, тем не менее видно, что он все время думает о чем‑то другом. «Должно быть, ваша сестра не придет, — говорит он, посмотрев на часы. — Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас». Ага, стало быть, он и пришел‑то лишь затем, чтобы встретиться с сестрой «Маленькой пользы», в которую влюблен, и говорил‑то лишь в ожидании ее прихода. И вот благодаря этому, прикрытому словами, но явственно проступающему у него на лице корыстному побуждению все, что он говорит, обесценено иронией и насмешкой. Радикальная перемена в жизни «Маленькой пользы» обесценена или, во всяком случае, поставлена под сомнение теми мерзкими разочарованиями, которые он испытывает, и той виною, которую он на себя взваливает; диалектические теоретизирования гостя саморазоблачают себя в наших глазах тем, что они затеяны лишь в ожидании прихода девушки. Жизненная правда, к которой прежде всего обязан стремиться писатель, обесценивает идеи и мнения: она по природе своей иронична, и это часто приводит к тому, что писателя, который превыше всего ценит истину, упрекают в беспринципности, равнодушии к добру и злу, отсутствии идей и идеалов. Чехов протестовал против такого рода упреков: он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые, «субъективные», то есть касающиеся авторского отношения к описываемому элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Откуда же тогда его «боязнь», неприятие своей славы, опасение, что он талантливо обманывает своих читателей, поскольку у него нет ответа на важнейшие вопросы? Откуда эта пугающая способность забираться в душу отчаявшегося старца, сознающего, что в его жизни не было «общей идеи», «без которой вообще ничего нет», и на вопрос растерявшейся девушки: «Что мне делать?» отвечающего — «По совести: не знаю»?
Если правда жизни по природе своей иронична, то искусство, видимо, по природе своей нигилистично? А ведь оно основано на трудолюбии! Оно, так сказать, труд в чистом, наиболее отвлеченном виде, парадигма труда, труд в себе. Чехов любил работать, как никто другой. Горький сказал о нем, что «не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как Чехов». И в самом деле, он работал непрерывно и без устали, невзирая на хрупкость своей конституции, невзирая на болезнь, подтачивавшую его силы, — работал изо дня вдень, до последнего вздоха. Более того, он проделывал эту героическую работу, не переставая сомневаться в ее смысле, испытывая постоянные угрызения совести оттого, что ей недостает центральной «общей идеи», что на вопрос: «Что делать?» — у него нет ответа и что этот вопрос он бездумно обходит, описывая одну только неприкрашенную жизнь. «Мы пишем жизнь такою, какая она есть, — говорил он, — а дальше — ни тпрру ни ну…» Или: «При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок».
«Существующий порядок» — это нетерпимый порядок девяностых годов в России, при котором жил Чехов. Но его скорбь, его сомнения относительно смысла работы, ощущение странности и непонятности его роли как художника носят вневременный характер и не могут быть связаны исключительно с тогдашними русскими условиями. «Условия» — я хочу сказать, неблагоприятные условия, знаменующие роковой разрыв между правдой и реальной действительностью, существуют всегда; и в наши дни у Чехова есть братья по мукам душевным, которые не рады своей славе, ибо им приходится «забавлять гибнущий мир, не давая ему ни капли спасительной истины» — так, во всяком случае, принято говорить; они с таким же успехом могут поставить себя на место убеленного сединами героя «Скучной истории», не умевшего дать ответ на вопрос: «Что делать?»; они тоже не могут сказать, в чем смысл их работы; они тоже, несмотря ни на что, работают, работают до последнего вздоха.
И все же в нем что‑то есть, в этом удивительном «несмотря ни на что», в нем должен быть какой‑то смысл, а вместе с ним должна обрести смысл и работа. Не кроется ли в ней самой, хоть она и кажется порой пустою забавой, нечто нравственное, полезное, социальное, нечто такое, что ведет в конечном счете к «спасительной истине», к которой так тянется наш растерянный мир? Я уже говорил выше о том, что у литературы также есть свое собственное «я», о вытекающих отсюда неожиданных последствиях и о том, как дух ее, помимо воли и без ведома молодого Чехова, проник в его юмористические безделки, нравственно облагородив их. Этот процесс можно проследить на протяжении всей его писательской жизни. Один из биографов Чехова свидетельствует, что для его развития примечательно постоянное изменение его отношения к своей эпохе по мере овладения им мастерством формы. Это не только определяет выбор материала, развитие сюжета и характеристику персонажей, но и явствует из всего этого, нередко получая сознательное отражение в речи героев, что свидетельствует о безошибочном чутье и способности видеть, какие силы скоро отойдут в прошлое и какие приметы времени следует отнести к будущему. Что особенно заинтересовало меня в данном высказывании, это констатация связи между достигнутым мастерством формы и возросшей морально — критической чувствительностью к духу времени, иными словами, все более углубляющимся пониманием того, что обществом отвергнуто и уже отмирает и что должно прийти на смену ему, — следовательно, констатация связи между эстетикой и этикой. Ибо не она ли, эта связь, и сообщает трудолюбию искусства достоинство, смысл и полезность, не здесь ли следует искать объяснения тому, что Чехов вообще столь высоко ценил труд и осуждал всех бездельников и тунеядцев, все более недвусмысленно отрицал жизнь, построенную, по его собственным словам, на рабстве?
Это суровый приговор буржуазно — капиталистическому обществу, которое кичится своей гуманностью и слышать ничего не хочет о рабстве. Чехов — новеллист проявляет поразительную проницательность, высказывая сомнение, действительно ли после освобождения крестьян гуманность и общественная мораль в России сделали шаг вперед — положение, которое в известной мере можно наблюдать повсюду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
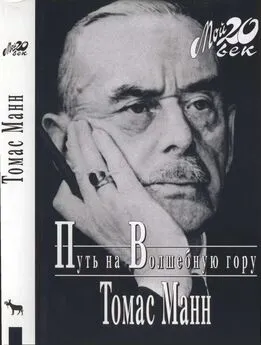

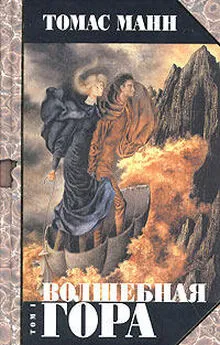
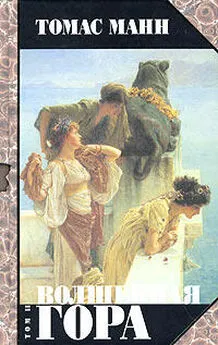

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)