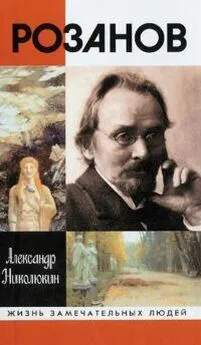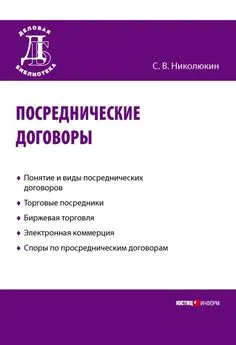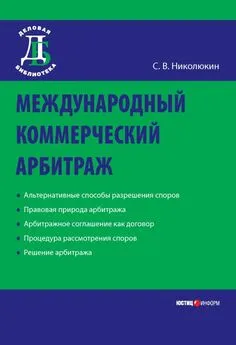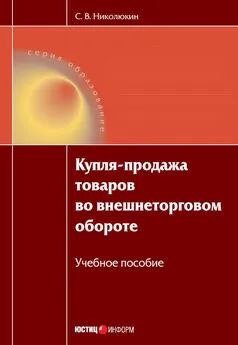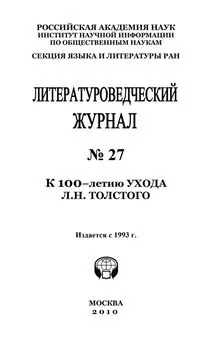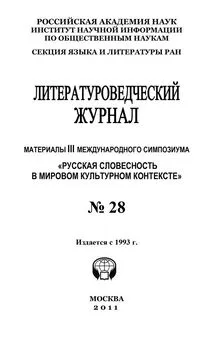Александр Николюкин - Розанов
- Название:Розанов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02398-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Розанов краткое содержание
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Розанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сделаться писателем невозможно, повторял Розанов. «Тайна писательства в кончиках пальцев, а тайна оратора в кончике его языка» (173). Поэтому молодежи он советовал: «Только не пишите ничего, не „старайтесь“: жизнь упустите, а написанное окажется „глупость“ или „не нужно“ (73).
В гимназии Розанов безумно много читал, но уже в университете дальше начала книг „не ходил“: мешало думать. Прочитал в начале книги Шопенгауэра „Мир как воля и представление“ слова о том, что мир — это мое представление. „— Вот это хорошо, — подумал я по-обломовски. — „Представим“, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно“ (81).
В „Опавших листьях“ Розанов высказал ставшую „крылатой“ среди современников фразу о том, что литературу он чувствует „как штаны“. „Так же близко и вообще „как свое“. Их бережешь, ценишь, „всегда в них“ (постоянно пишу). Но чт о же с ними церемониться???!!!“ (172).
Развивая свою любимую мысль, Василий Васильевич пишет: „У меня никакого нет стеснения в литературе, п. ч. литература есть просто мои штаны. Что есть „еще литераторы“, и вообще что она объективно существует, — до этого мне никакого дела“ (297).
Правда, все это „по-розановски“ не исключало и другого. У Василия Васильевича, как ни у кого, было обострено чувство социальной справедливости, хотя, казалось, говорил он обратное. „Общественность“, кричат везде, — „возникновение в литературе общественного элемента“, „пробуждение общественного интереса“. Может быть, я ничего не понимаю: но когда я встречаю человека с „общественным интересом“, то не то чтобы скучаю, не то чтобы враждую с ним: но просто умираю около него» (84). «Общественность» — это штамп, и Розанов выступает против него.
Таким «штампом» в искусстве была «литературность», ставшая процветать с развитием «цивилизации». «Не литература, а литературность ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое переживание переливается в играющее, живое слово: но этим все и кончается, — само переживание умерло, нет его» (92).
Писателю необходимо подавить в себе «писательство». Только достигнув этого, он становится писателем. «Есть ведь и маленькие писатели, но совершенно чистые . Как они счастливы!» (141). Не случайно Василий Васильевич как-то заметил, что вообще любит «маленькое».
Судьба писателя странна и вызывает удивление, говорил он. «Что такое „писатель“? Брошенные дети, забытая жена, и тщеславие, тщеславие…» (320). «Писатель вечно лакомится около своего самолюбия» (269), — отмечает он в другом месте.
Собратья по перу обычно вызывали у Василия Васильевича чувство неприязни. Он видел их мелкие души и постоянную «холодность»: «Литературная память самая холодная. На тех немногих „литературных похоронах“, на которых он бывал, его поражало, до чего идущим за гробом — никакого дела нет до лежащего умершего. Разговоры. „Свои дела“. И у „выдающихся“ заботливая дума, что он скажет на могиле. „Неужели эти „сказыватели“ пойдут за моим гробом? Бррр… То ли дело у простецов: жалость, слезы, все“» (272).
Может быть, отсюда и столь мрачные мысли о делах литературных: «Несу литературу как гроб мой, несу литературу как печаль мою, несу литературу как отвращение мое» (120). И наряду с этим он не может согласиться с мнением своего друга Флоренского, что вообще литература дрянь: «Не все цинично на Руси. И не все цинично в литературе» (200).
Однажды «благороднейший мечтатель» В. А. Тернавцев, приятель Розанова по Религиозно-Философским собраниям, бросил ему «необыкновенной глубины и тревожности» замечание, которое поразило и заставило задуматься через три года. Сказалась «затяжность души», как называл это свое свойство сам Василий Васильевич: «„Событием“ я буду — и глубоко, как немногие — жить через три года, через несколько месяцев после того, как его видел. А когда видел — ничего решительно не думал о нем» (53). Зато в то время он мог страстно и горячо думать о событии трехгодичной давности. И такое бывало с ним со времен детства, юности.
Беседа с Тернавцевым шла об университете, профессорах, литераторах, о правительстве и министрах. И тут Валентин Александрович перебил Розанова: «— Пустое! Околоточный надзиратель — вот кто важен! — Он как-то провел рукой, как бы показывая окрест, как бы проводя над крышами домов (разговор был вечером, ночью):
— Тут вот везде под крышами живут люди. Какие люди? как они живут? — никто не знает, ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает. И не интересуется никто. Между тем какие люди живут и как они живут — это и есть узел всего; узел важности , узел интереса . Знает это один околоточный надзиратель , — знает молча, знает анонимно, и в состав его службы входит — все знать , „на случай“; хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает вора , — он знает проститутку , — он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выходы женщины полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в „На дне“, что выводят Арцыбашев и другие — вся эта тревожная и романтическая жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится, „по долгу службы“, в ведении околоточного надзирателя, и еще, „по долгу службы“, ни в чьем ведении не находится» (278).
Розанов был поражен справедливостью этого наблюдения: «В самом деле — так! и — никому в голову не приходило !» Все так просто и понятно. И Василий Васильевич ищет ясного, простого объяснения: «Мало солнышка — вот все объяснение русской истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности (литература)» (347).
Как-то ночью, когда не спалось, ему пришла мысль: «Господь надымил мною в мире» (145). Вот эта «дымящаяся головешка» постоянно, до головной боли, раздражала всех вокруг: в редакции газеты, в литературном Петербурге, в печати. И «хитрейший» Василий Васильевич вопрошал: «Не понимаю, почему меня так ненавидят в литературе. Сам себе я кажусь „очень милым человеком“» (166). А подчас говорил о себе еще более уверенно: «Иногда кажется, что я преодолею всю литературу» (305).
«Пароход писательства», как Розанов называл свое творчество, шел при муках души, горе, несчастии (болезнь «друга»). «Все „идет“ и „идет“… Корректуры, рукописи…» (286). Писатель приобрел «знаменитость», но в отчаянии восклицал: «О, как хотел бы я изодрать зубами, исцарапать ногтями эту знаменитость, всадить в нее свой гнилой зуб, последний зуб. И все поздно… О, как хотел бы я вторично жить, с единственной целью — ничего не писать . Эти строки — они отняли у меня все; они отняли у меня „друга“, ради которого я и должен был жить… А „талант“ все толкал писать и писать» (77).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: