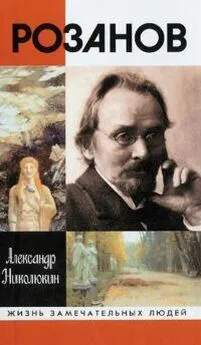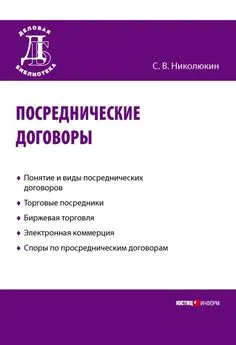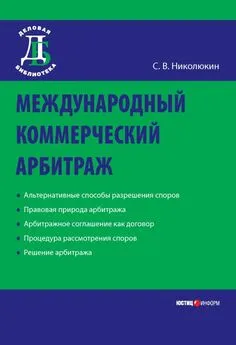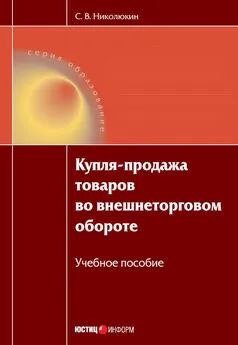Александр Николюкин - Розанов
- Название:Розанов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02398-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Розанов краткое содержание
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Розанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но главное, что привлекло Розанова в воспоминаниях Буслаева, — это его слова о статье Чаадаева: «С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь» [131] Там же. С. 912.
. Это, по мысли Розанова, звучит как «единственный, смиренный в своей тихости и вместе уничтожающий ответ на знаменитое „Письмо“».
Чаадаев высказал свое представление о России и ее будущности, которое современники не поняли, и автор «Философического письма» был объявлен сумасшедшим не одним только «высочайшим повелением». Он заговорил о будущем России не в привычных патриотических традициях Сумарокова и Державина, Карамзина и Жуковского, а как человек нового века, постигший горечь настоящего и не склонный идеализировать прошлое. Чаадаев, который любил в своей стране «лишь ее будущее», нарисовал мрачную картину российской действительности, может быть, даже более мрачную, чем предстает перед нами в «Мертвых душах», столь потрясших Пушкина.
Розанов, уже высказавший к тому времени свои «укоры Гоголю», не мог, конечно, принять Чаадаева с его формулой: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя» [132] Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 37.
.
Именно эпоха «мертвого застоя» российской жизни (не в первый и не в последний раз) породила слова великого гнева и великой боли, которые справедливы самим пафосом обличения, отрицанием не столько прошлого, сколько его результата — настоящего. «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили».
Говоря, что Россия «ничего не сделала для общего блага людей», что «ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины», что «мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь» [133] Там же. С. 41–42.
, Чаадаев предостерегал против неверного толкования его слов: «Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог!»
Заметили ли потомки эту оговорку Чаадаева, учли ли ее в своих суждениях о нем? Приходится признать, что, как правило, не учитывали. Ухватившись за броскую формулу: «Мы ничего не дали миру», — они подчас проходили мимо того, чт о стояло за этой формулой и чем она была вызвана. А стояла за ней великая любовь к России, жажда и уверенность в ее будущем.
Непонимание Чаадаева современниками и читателями последующих поколений не могло не сказаться и на отношении к нему Розанова. Рецензируя двухтомник «Сочинений и писем» Чаадаева, вышедший под редакцией М. О. Гершензона, Розанов не преминул отметить, что «Философских писем», по правде сказать, никто не читает и не читал, а так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».
В Ельце была создана первая литературная книга Розанова — «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (1890). Философское размышление о Достоевском, начатое в счастливые годы в Ельце, продолжалось всю жизнь Василия Васильевича. «Я потому так и люблю Достоевского, потому смерть его так страшно поразила меня, что он понял не только светлое, но и все темное в подростках наших, и это темное обвил такою любовью, таким состраданием» [134] Письма В. В. Розанова к К. Н. Страхову. С. 193.
, — писал он Страхову в одном из первых писем 3 февраля 1888 года.
Никого из писателей не любил Розанов так, как Достоевского, постоянно вчитывался в его книги и говорил, что это — «гибкий, диалектический гений, у которого едва ли не все тезисы переходят в отрицание» [135] РГАЛИ. Ф. 419. On. 1. Ед. хр. 219. Л. 5.
(вот где истоки антиномического мышления и самого Розанова). А Страхову, перед которым преклонялся, в качестве величайшего комплимента написал: «После Достоевского Вы навсегда будете наиболее близки, дороги моей душе» [136] Письма В. В. Розанова к Н. Н. Страхову. С. 205.
. Но, видимо, сознавая известную бестактность такого суждения перед лицом бывшего друга Достоевского, смущенно добавляет: «Я не буду ждать на это письмо никакого ответа, и мне будет даже неприятно получить его».
По воспоминаниям современников, «Полное собрание сочинений» Достоевского, подготовленное вдовой писателя А. Г. Достоевской (с которой он затем состоял в переписке), всегда было под рукой у Василия Васильевича. «Зная симпатию В. В. к Достоевскому, я однажды спросил его, — вспоминает Э. Голлербах: — „Кто из героев Достоевского Вам больше всего по душе, чья психология Вам ближе и роднее?“ Не задумываясь ни на минуту, В. В. ответил со свойственной ему порывистой и вместе с тем мягкой интонацией: „Конечно — Шатов“» [137] Голлербах Э. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. СПб., 1922. С. 57.
. Герой «Бесов» и связанные с ним мысли о России и ее судьбах, о русском национальном характере всегда волновали Розанова.
«Дневник писателя» был особенно любим Розановым, ибо здесь Достоевский открывал новый жанр современной литературы — исповедальный диалог писателя с читателем, основанный на доверии и взаимном понимании (что было особенно дорого Василию Васильевичу). В форме непринужденной беседы писатель не только высказывал самое заветное, сокровенное, о чем иногда в романе или повести и не выговоришь, но и не опасался сказать нечто несерьезное, несостоятельное (как то и случается, когда люди разговаривают в повседневной жизни).
Самое заветное связано для Достоевского с самым фантастическим: «Всего чудеснее бывает весьма часто то, что происходит в действительности. Мы видим действительность всегда почти так, как хотим ее видеть, как сами, предвзято ., желаем растолковать ее себе» [138] Достоевский Ф. М.Полн. собр. соч. Т. 25. С. 125.
. Иными словами, «реализм, так сказать, доходящий до фантастического». Или, как писал Достоевский в том же «Дневнике писателя»: «Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии» [139] Там же. Т. 22. С. 91.
.
Отрицая современную ему цивилизацию, которую он именовал цивилизацией озверения человека (а Розанов в одном из писем к Леонтьеву назвал «пиджачной цивилизацией»), Достоевский верил, что «царство мысли и света» настанет в России. Залог того он видел в русском народе, в его стремлении к добру и справедливости даже в самую глухую и черную пору жизни. «Есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж, как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры» [140] Там же. Т. 22. С. 41.
.
Интервал:
Закладка: