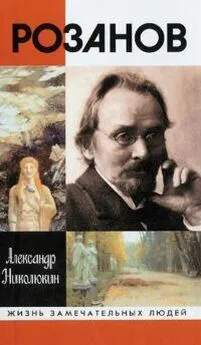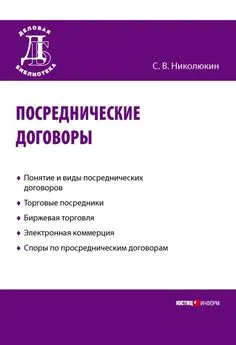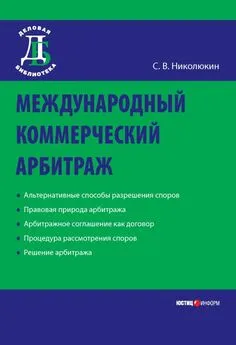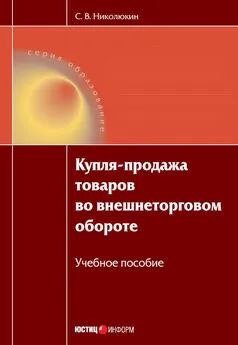Александр Николюкин - Розанов
- Название:Розанов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02398-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Николюкин - Розанов краткое содержание
Книга А. Н. Николюкина — известного исследователя жизни и творчества замечательного русского писателя и философа Василия Васильевича Розанова — основана на документальных и архивных материалах и впервые целостно представляет историю становления Розанова как художника и мыслителя.
В ней дана литературная характеристика всех значительных произведений писателя, отличавшегося нетрадиционным образом мышления. Перед читателем предстает вся панорама его творческого наследия. Многие важнейшие книги Розанова, созданные в 1913–1918 годах, впервые исследуются по рукописям и публикациям в 12-томном собрании сочинений В. Розанова.
Розанов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Юбилей отшумел. Стали стихать страсти и восторги. И тут «нарушитель спокойствия» Розанов задал «неуместный вопрос»: «Чего недостает Толстому?» [379] Розанов В.Чего не достает Толстому? // Новое время. 1908. 3 сентября.
Статья под таким названием написана в форме диалога. Это как бы «заготовка» для будущих «Опавших листьев», по-розановски колючая и пронзительная, по-розановски ироничная и беспощадная:
— Как «чего недостает»? Это после юбилея-то! Наделен всем, решительно всем, что может придумать человек!
— Да, но ему недостает остроумия.
— Остроумия? Никогда не приходило на ум. Толстой и остроумие…
— Не правда ли, несовместимы?..
— Например?
— Ну, например, кому нужен разбор макарьевского «Догматического богословия», о котором богословы и сами говорят, что это есть недаровитая компиляция, исполненная ошибок. Религия Толстого прелестно выразилась в «Чем люди живы», «Много ли человеку земли нужно», в «Смерти Ивана Ильича» и проч. И около этих живых религиозных страниц какой мертвой кладью едет или везется его «Разбор догматического богословия» <���«Исследование догматического богословия»>. Немножко бы остроумия, грибоедовской или гоголевской веселости, — и Толпой этого не написал бы…
— Вы говорите — это от избытка серьезности?
— Ужасного. Нельзя до такой степени быть серьезным, как Толстой. Задохнешься. Шьет ли он сапоги — «заповедь», пашет землю — «заповедь». Бог дал человеку только десять заповедей, а не сто десять. Почему бы? Мог ведь и сто десять дать, «могуществу бо его не положено предела». Но Бог пощадил человека и в милосердии сказал ему: «Погуляй». Десять заповедей исполни, а одиннадцатой — не надо. Нет, я серьезно: Бог в этом выразил глубокое попечение о его свободе, о его относительной даже и от Бога независимости.
Теория искусства, выдвинутая Толстым, была воспринята Розановым именно как нечто слишком «серьезное», лишенное «остроумия». Серию своих статей «Толстой и Достоевский об искусстве» он начинает с объяснения того, почему Толстой «не уважает искусства»: оно «искусственно» и есть результат работы человеческого воображения. По мысли Толстого, предметы должны существовать как есть, и человек должен смотреть и видеть их без всяких прикрас и прибавок. «Лежит кирпич, и человек видит, что это — кирпич; „вот и довольно“, говорит Толстой. Но подходит архитектор и начинает из кирпичей складывать красивое здание. „Зачем? — спрашивает Толстой, — этого нет в природе и потому это ложно “» [380] Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. С. 205. Далее цитируется эта статья.
.
Розанов доводит толстовскую мысль до парадокса, до абсурда, чтобы яснее выразить свое, розановское. А «свое», задушевное у него всегда одно: семейный вопрос. И вот он задает Толстому свой вопрос — «крюком за ребро». У Толстого несколько дочерей. « Пожелал ли бы он в душе своей искренно … чтобы они были наружностью отвратительны, или гадки и неинтересны, как доски, и никого бы не „соблазняли“, и в конце концов ни за кого бы не вышли замуж, и никогда бы не имели детей? Искренно — и искреннего ответа спрашиваем: и вправе спросить; ибо он искренно нас упрекает: зачем вы нравитесь друг другу, зачем вы делаете нравящееся, зачем вы занимаетесь искусством?»
Здесь Василий Васильевич снова перешел на личности, но, когда речь заходила о самом для него дорогом, он иначе не мог. В ответ на толстовское отрицание красоты он говорит: «Красивое — полезно! Ничего нет „полезнее“ красоты для женщины (выйдет замуж, будет иметь детей), да и для нас, людей, нет ничего полезнее солнышка, дубравы и вот „Полного собрания сочинений гр. Л. Н. Толстого“. Столько утешений! Без этого бы „хоть удавиться“. А что же вреднее для человека, как удавиться?»
Нет большего удовольствия для Василия Васильевича, чем опровергать Толстого самим же Толстым. Ведь Толстой «отрицает искусство не натурою, а выдумкою». Но, читая все его морализующие теории, говорит Розанов, хочется, посмеиваясь, ответить ему словами Стивы Облонского:
Узнаю коней ретивых
По таким-то их таврам,
Юношей влюбленных
Узнаю по их глазам…
И натуральную влюбленность Толстого во всякую красоту мы тоже узнаем по «таким-то и таким-то непререкаемым его таврам», которых не скрадут никакие его рассуждения.
Художественное мировосприятие Толстого проявляется во всегдашнем стремлении преодолеть и прозу и поэзию путем взаимного их снятия. «Он опоэтизировал прозу и прозаическое, — пишет Розанов, — а поэтическое, картинное, героическое, точно переработав на реактивах души своей, разложил в прозу, плоскость, выдуманность, мишурность» [381] Варварин В. Одно воспоминание о Л. Н. Толстом // Русское слово. 1908. 11 октября.
.
Именно потому Толстой и не принял Шекспира и попытался разложить его поэзию в «мишурность». Он упрекает Шекспира за напыщенный язык его королей. Действие «Короля Лира» он рассказывает своими словами, «точно протокол в следствии». И Розанов вопрошает: «Что же остается от трагедии, от искусства? Так мало, что и назвать нечем. В искусстве важно не то, о чем рассказывается: это только кирпич для здания; искусство начинается с того, как рассказывается — как в архитектуре оно начинается с линий здания, карнизов, колонн и всяких „вычур“ „ненужного“». Толстой упростил и довел до схемы историю Лира, что Розанов сравнивает с гимназическим «изложением своими словами „Мертвых душ“».
Выставив Толстому в гимназический журнал «двойку» (или «тройку») за пересказ «Короля Лира», Розанов вместе с тем признает, что он может прожить без искусства и без «праздных выдумок». «Зачем ему все это, если все это из него самого растет? Счастливая почва. Но мы гораздо беднее, у нас „землицы чуть-чуть“, мы — простые средние люди, без гениальности, без таланта: чем мы-то будем жить без религии, искусства и науки, без Шекспира и „праздных выдумок“?»
В поисках причины «антишекспиризма» Толстого Розанов обращает внимание на то, что Толстой никогда не переживал трагедии Шекспира своим личным чувством, как, например, Достоевский. Слабость толстовской критики Шекспира проистекает из того, — что он смотрел на его пьесы не как на факт жизни — «вот у меня», «вот у него», а только как на какие-то книги «из аглицкой литературы XVI века». Для молодого Достоевского же мысли Гамлета отвечали его собственным чувствам.
И здесь Розанов усматривает главное различие двух писателей в их отношении к искусству и науке. Толстой бранил науку за то, что она слишком «хитра», а Достоевский смеялся над тем, что она слишком уж «не хитра». Достоевский бранил позитивистскую науку 1870-х годов с ее надменной верой, что она скоро все объяснит, что вне этой науки путей нет. «Против этой коротенькой и самомненной науки Достоевский и спорил, — пишет Розанов. — И не прошло четверти века, как наука сама слишком оправдала предвидения Достоевского, вечный зов его к сложному, глубокому, к трудному и неисследимому».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: