Мариэтта Шагинян - Иозеф Мысливечек
- Название:Иозеф Мысливечек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Молодая гвардия
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариэтта Шагинян - Иозеф Мысливечек краткое содержание
Живо, увлекательно, с большим знанием музыки рассказывает М. С. Шагинян о чешском композиторе XVIII века Иозефе Мысливечке. Книга рассчитана на массового читателя.
Иозеф Мысливечек - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но вот надвинулись темные пятна. Дивной свежестью повеяло в машину — это леса вдруг нагрянули справа и слева, как стройные роты на марше, а вместе с ними, там и сям вдоль дороги, светлые юбки крестьянок. Женщины стоят безмолвно, держа в руках по белому грибу на продажу, как у нас по дорогам в лесах Белоруссии. Только грибы необыкновенного размера, с очень светлыми палевыми головками, не такими темными, как в наших лесах, и чистые фарфоровые формы их кажутся издалека без единой червоточинки.
Старое и новое перемешалось. Но я цепко держу в памяти своего Мысливечка и вижу его, как он, напевая, в расстегнутом у шеи кафтанчике, с растрепанными кудрями идет вдоль опушки и тоже, может быть, несет найденный им гриб — так, ни для чего, для красоты, потому что жалко бросить.
И тут опять, из глубины прошедшего двухсотлетия, хочется провести черту к современности или хотя бы к концу прошлого века. Искать национальное лицо музыканта в прошлом времени кажется мне бесплодным делом, особенно возвращаясь к Мысливечку. Все чаще и чаще в изящной и легкой фактуре Сметаны, в прелестной «итальянской» форме его «Проданной невесты», с ее необыкновенной законченностью и цельностью, мерещится мне духовное наследие Мысливечка — в б о льшей степени, чем всякое иное наследство. Тема эта в науке, насколько знаю, совершенно не разработана. И мог ли Сметана знать Мысливечка, слышать что-либо из его вещей, я тоже не знаю. Но опять и опять думается мне, что в легкой, изящной, формально законченной, классической музыке Сметаны есть что-то родное духу и стилю Мысливечка, и это самый верный, самый наглядный путь поисков национального значения творчества Мысливечка в том, еще очень мало разработанном целом, которое можно назвать историей чехословацкой музыки, — поисков не в прошлом, а в будущем.

Глава седьмая
Мы пошли на площадь ученых. О, сколько
там было ссор, раздоров, схваток и погони
друг за другом! Редко тут у кого-нибудь
не было тяжбы с кем-нибудь иным;
не только молодые (что можно было бы
приписать незрелости), но и сами старики
досаждали друг другу… Стоило кому-нибудь
что-либо высказать, как другой тотчас
шел на отпор, даже о снеге и то затевали
спор: белый ли он или черный, горячий ли
или холодный.
Ян Амос Коменский[28] Эпиграф взят из книги Яна Амоса Коменского «Лабиринт мира и рай сердца», с чешского перевел Ф. В. Ржига. Н. Новгород, 1896, с. 45–46, гл. 10 («Путник смотрит сословие ученых»), § 10.
Город Брно — главное место хранения материалов по Мысливечку, но не единственное. Прежде чем приехать туда, я побывала в Опаве, где в архиве Силезского научного института должны были храниться три рукописи Мысливечка. Но справка, данная мне в Праге, оказалась не совсем точной. В светлом зале института передо мной положили на стол три папки; но только в двух из них оказались две рукописи Мысливечка (его Duetto и Motteto, под номером А-316); в третьей папке лежала рукопись совсем другого музыканта, тоже Мысливечка, но не Иозефа и не восемнадцатого века. В городке Кромержиже, тоже обозначенном в библиографической справке, и вовсе ничего не нашлось. Я не жалела времени на эти, казалось бы, бесплодные разъезды по городкам и замкам Чехословакии. Что-то наслаивалось и росло в душе с каждым оставленным за собой километром, словно стежок за стежком сшивались разрозненные картины и образы в большую пеструю ткань, приближавшую меня к моей теме.
С чешскими друзьями мы плыли на лодке по бирюзовой глубине подземного озера, отталкиваясь длинным веслом от сталактитовых стен пещеры; ступали на узкие берега, словно внутрь большой раковины, созданной окаменевшими слезами земли, ее солью, ее известковым плачем, — и это была Мацоха. Прошли обителью настоящего человеческого плача — палатами большой кромержижской больницы для душевнобольных, где люди, вырванные из времени самой страшной болезнью в мире, провожали нас глазами неведомого внутреннего напряжения, неведомой борьбы с собой, и это было удивительным контрастом с покоем синего озера под землей, а в то же время и странным продолжением вневременного бытия. И наконец, мы въехали в плоскую, плодородную равнину черноземной местности, называемой Хана, как библейская Ханаанская земля, — там была деревушка Костелец.
На окраине ее — большая красивая вилла, в которой так уютно было бы жить замечательному народному поэту Чехословакии. Но в этой вилле жили его секретарша с матерью, а сам он — за глухой каменной стеной в городском каменном доме с городским входом в него: звонком, передней, приемной. В тот год, когда я навестила Петра Безруча, незадолго до его смерти, он ждал, и вся Чехословакия ждала вместе с ним, дня рождения — в сентябре ему исполнялось девяносто лет. К Петру Безручу, оберегая его, почти не допускали посетителей. Но к нам он вышел — большой, крепкий, с крупной круглой головой, бронзовой от деревенского солнца. На ней уже ничего не росло, кроме редких кустиков старческой щетинки, и эта большая умная голова со щетинкой чем-то напомнила мне его «Кактус»:
За темным окном, в сумраке сизом
Колючий и грубый хмурился кактус…
Старости почти не было заметно в нем, только маленькие глаза все время щурились, как будто затягиваясь веками, в невольной дремоте. Всю дорогу к нему я читала в машине красивое новое (юбилейное) издание «Силезских песен» — настоящая поэзия сразу понятна на любом языке. Петр Безруч посидел с нами недолго, по-русски сказал, произнося «арменский» вместо «армянский»: «Я знаю арменский народ, он много страдал в прошлом, я люблю армен»; но надпись на книге сделал мелким, крепким, совсем не старым почерком, по-чешски. Он написал перевод персидского двустишия: «Будут в жизни радости, счастье, страсти, — но это пройдет; будут в жизни большое горе, утраты, слезы, — но это пройдет…» Все проходит — он повторил это, затянув глаза веками, уже про себя, — и мы простились с ним, родившимся в одном десятилетии с падением крепостного права, видевшим своими глазами тех самых панов на родной земле, и того самого забитого, затравленного крестьянина, и ту бедную Маричку Магдонову, о которых он так чудесно пропел, — и которых видел на украинской земле и тоже чудесно воспел Тарас Шевченко. Только Тарасова «Маричка» звалась «Катериной».
Все проходит… Но нас интересовало не то, чему наступает конец, а то, что остается, хотя бы в памяти человеческой. И, выбравшись на большое шоссе, мы понеслись в Брно. Если молодой Мысливечек по делам пражской мельницы или музыкальным своим делам не наезжал в маркграфскую столицу Брюнн, то уж наверняка он не мог миновать ее на своем пути в Вену. А годы его странствий по родной земле почти совпали со «странническими годами» другого юноши, гётевского Вильгельма Мейстера, да и горные деревушки Саксонии или Франконии, где по лесистым холмам бродил герой романа Гёте, были, в сущности, совсем недалеко от лесистой Богемии. Гёте заставил своего героя увидеть, бродяжничая по деревням, прежде всего народ . И не только народ, а и то, чем занимается народ в этих деревушках, разбросанных по зеленым склонам. Раннее утро капитализма, век мануфактуры, деревенское начало ее, — экономисты называют его образным словом «рассеянное», — рассеянное, разбросанное по крестьянским горницам сырье, распределенное на руки каждому семейству, кто хочет работы, — мягкая овечья шерсть, или, может быть, жесткая конопля, или гибкий кормилец — лен. В каждом домике вертелось в руках неутомимое веретено, наматывая на себя пряжу; из каждого оконца жужжала деревянная ножная прялка с колесом. Столетие спустя это отразилось в музыке — лучшей на мой взгляд, какую создал Вагнер: в вихре красоты и силы и простой мелодической прелести знаменитого второго действия «Летучего голландца» — сцены прядения девушек в горнице. Начало фабричного века, возможность приработка, выход из голодного крестьянского беспросветного существования… От зари до зари, не разгибая спины, не давая отдыха рукам и ногам, пряли домушницы свою пряжу. В Богемии и Моравии были целые деревни домушников, работавших ночи напролет, при слабом свете лучины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
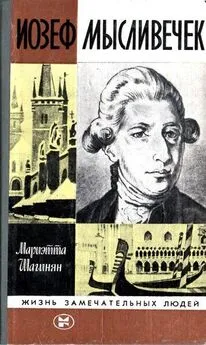

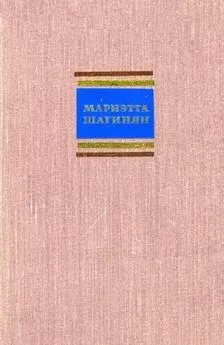
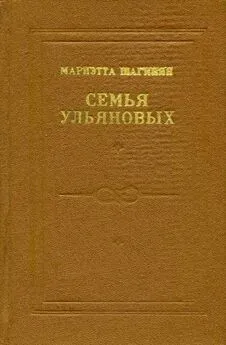
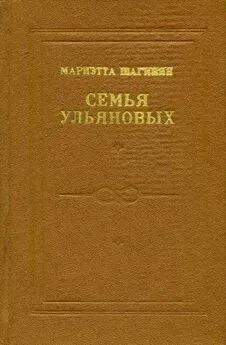


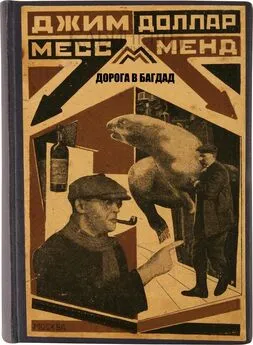
![Мариэтта Шагинян - Месс-Менд, или Янки в Петрограде [Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVIII]](/books/1085114/marietta-shaginyan-mess.webp)
