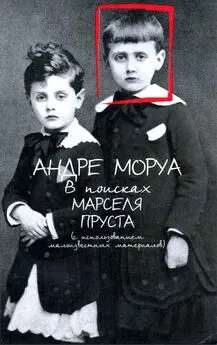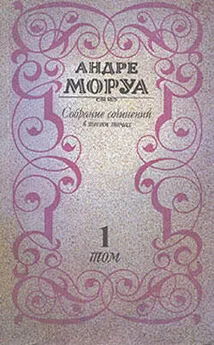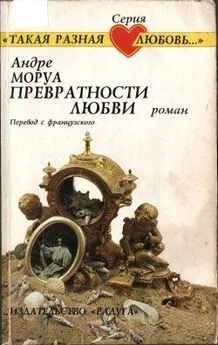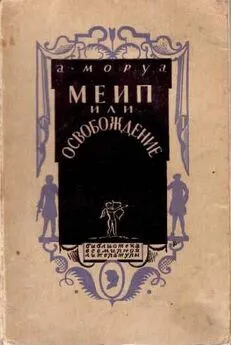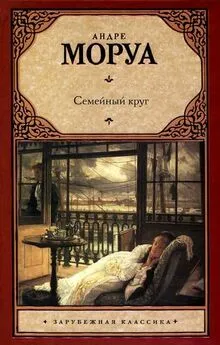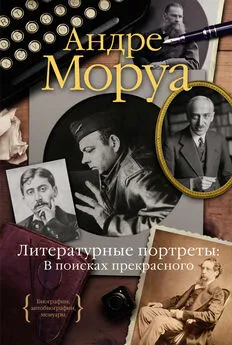Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста
- Название:В поисках Марселя Пруста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лимбус Пресс
- Год:2000
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8370-0241-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста краткое содержание
Марселя Пруста, автора цикла романов «В поисках утраченного времени», по праву называют создателем «самой великой французской книги XX века». Много лет посвятив изучению жизни и творчества Пруста, Андре Моруа написал, пожалуй, самую исчерпывающую биографию знаменитого затворника. Благодаря приведенным в книге Моруа письмам и дневникам Пруста, где последний со всей откровенностью повествует не только о своих творческих прозрениях, но и о гнетущих его пороках, перед читателем возникает полнокровный образ гениального писателя во всем своем величии и земном несовершенстве.
На русском языке публикуется впервые.
В поисках Марселя Пруста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во время той ночной трапезы Мориак заметил последнего «пленника», того, кого Пруст называл «мой единственный А…», и который по слухам был молодым швейцарцем. Но даже А… был уже обречен, и Пруст подыскивал ему место в Соединенных Штатах. [244] Его звали Анри Роша, но уехал он не в США, а в Аргентину; в Штаты уехал другой — швед Эрнст Форсгрен. См. именной указатель.
Была ли это усталость, крайняя аскеза, или желание в момент опубликования «Содома и Гоморры» достичь чистоты и ясности в собственной жизни «по примеру расстриженных священников, которые придерживаются строжайшего целомудрия, чтобы их желание оставить сутану не приписали чему-либо иному кроме потери веры»? В первую очередь это было полной и естественной отрешенностью человека, который не жил более в этом мире, но в том, который создал сам. Будучи совсем близок к своему концу, «он оставался один в этой меблирашке, озабоченный лишь гранками своей книги, поправками, которые делал на полях между двумя приступами удушья». Краткость отпущенных дней внушала ему тревогу не за себя самого (перебои чувств научили его тому, что умирают больше одного раза), но за собственное детище, поскольку, вместе с рудокопом исчез бы и рудник.
Magnum opus facio
С 1920 по 1922 годы тяжело больной человек произвел колоссальный труд. Он уже давно перестал быть любителем, то есть человеком, для которого «поиск прекрасного не является ремеслом», — состояние опасное — и стал тем, чем должен быть писатель: ремесленником. В 1920 году он опубликовал «У Германтов» (I), в 1921-м — «У Германтов» (II) и «Содом и Гоморру» (I), в 1922-м — «Содом и Гоморру» (II), или, по крайней мере, первые части этой книги, потому что из-за добавлений она разрослась настолько, что Пруст искал для продолжения новые названия: «Пленница», «Беглянка» (ставшая «Пропавшей Альбертиной»). В то же время он дополнял готовившиеся к выпуску тома, делал правку уже отпечатанных, а править для него означало удваивать и утраивать, так что перепуганный издатель в конце концов сам давал «добро» на печать, поскольку надо было как-то обуздать этот поток, угрожавший смыть все берега. Но Пруст был уверен, что избыточность как раз и составляет стиль его произведения.
Марсель Пруст Гастону Галимару: «Раз вы так добры, что находите в моих книгах некоторые скромные достоинства, которые вам нравятся, то скажите себе, что они обязаны ими тому сверх питанию, которое я в них вливаю заживо, что материально выражается в этих добавках…» И в сентябре 1921 года: «В итоге, касательно «Содома II» я сказал одному из вас (думаю, что вам, но не поклянусь), что ввиду огромных переработок, которые необходимо было сделать, и которые бесконечно повысили литературную (и особенно жизненную) ценность книги, я рассчитывал поспеть к маю. В действительности же я думаю, что буду готов гораздо раньше, но это само по себе требовало большого времени, а я еще добавил несколько новых частей. Все, что могу вам сказать, это то, что я тружусь над этим все время, не занимаясь ничем другим…»
Ничем другим… Он говорил правду. В его глазах этот труд был бегом наперегонки со смертью: «Вот увидите, вы дадите мне гранки, когда я уже не смогу править…» Он убеждал Галимара доверить печатанье его книги четырем разным типографиям, чтобы, по крайней мере, успеть перечитать все до смерти. Неужели его болезнь настолько усилилась? Некоторые в этом сомневались; друзья привыкли к его жалобам и немочам и считали его одним из тех вечно хворых людей, которые в конце концов умирают столетними, но сам он, сын врача, наблюдал в себе тревожные изменения. Порой он, как и его умирающая мать, терял дар речи; слова ускользали от него; головокружения мешали встать.
Однажды, в 1921 году, он написал Жану-Луи Водуайе: «Я не ложился, чтобы пойти сегодня утром взглянуть на Вермеера и Энгра. Не желаете ли проводить туда мертвеца, которым я являюсь, чтобы он мог опереться о вашу руку?..» Во время посещения этой выставки Малых Голландцев в Зале для игры в мяч ему стало дурно, что он приписал плохо переваренному картофелю, и это послужило толчком для написания столь прекрасного эпизода смерти Бергота. Таким образом, пуповина между произведением и жизнью не была перерезана. Слово, выражение, жест, подобранные на обочине дороги человеком, который с таким трудом, влачась и задыхаясь, закачивал свое земное паломничество, все еще служили пищей для чудовища. Пруст Гастону Галимару: «Я был бы весьма не прочь, если они у вас под рукой, добавить пол-фразы к страничкам из школьной тетради, написанным моей рукой, где две «курьерши» разговаривают наподобие индеанок Шатобриана (где-то на странице 245, полагаю)…» Без сомнения, в тот вечер Селеста сказала что-то такое, что ему понравилось.
Порой он сам провоцировал нужные ему впечатления. Однажды он зазвал к себе на улицу Амлен «Капе-квартет», чтобы музыканты в течение ночи играли для него одного. Он хотел послушать Квартет Дебюсси, надеясь, что тот косвенным образом поможет ему дополнить Септет Вентёя. Сначала он колебался, не пригласить ли гостей, потом сказал Селесте: «Собственно, нет! Если будут другие слушатели, придется быть учтивым, а это отвлекает… Для моей книги мне нужны совершенно чистые впечатления…» Пока музыканты играли, он лежал на диване с закрытыми глазами, пытаясь с помощью музыки обрести какое-то мистическое причастие, как некогда с розами Рейнальдо.
Он долго боялся того дня, когда «Содом» выйдет в свет. Эта ужасная книга, думал он, вызовет разрыв со старыми друзьями, либо навлечет на него ярость извращенцев, опасающихся разоблачения, либо отвращение людей нормальных, которые будут порицать его. Но мало-помалу его растущая мировая слава успокоила эти опасения. Отныне он почувствовал себя неуязвимым. Без сомнения, Монтескью узнает себя в Шарлю. Но какое ему теперь дело до Монтескью? Он с ним давно не виделся, а если бы и увиделся, то испытал бы скорее жалость, а не страх. Вокруг старого дворянина-поэта образовалась трагическая пустота. Анатоль Франс покидал комнату, в которую тот входил, бормоча: «Не могу сносить этого человека, который вечно разглагольствует о своих предках». Быть может, Пруст с состраданием думал об этом упадке, который, впрочем, сдерживался несгибаемой гордыней, когда описывал оскорбление, нанесенное господину де Шарлю госпожой Вердюрен.
Успехи Пруста по-прежнему задевали Монтескью. Госпоже де Клермон-Тонер он сказал: «Я бы тоже хотел немного славы. Придется мне отныне именоваться Монтепрустом!» Когда в 1921 году появились «Германты II» вместе с ужасным началом «Содома и Гоморры», Пруст не сразу отправил том Монтескью, под тем предлогом, что ему трудно добиться оригинального издания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: