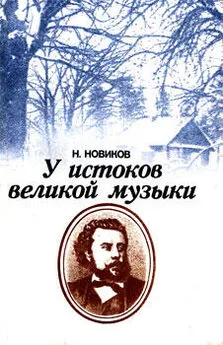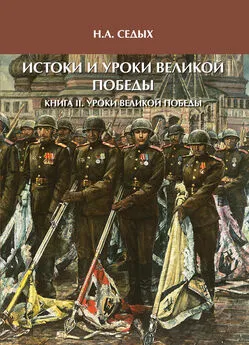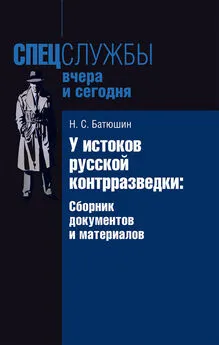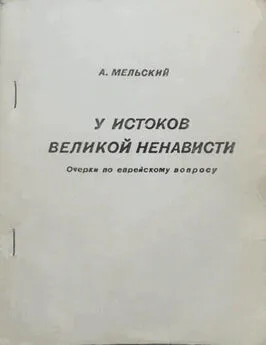Николай Новиков - У истоков великой музыки
- Название:У истоков великой музыки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1989
- Город:Ленинград
- ISBN:5-289-00464-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Новиков - У истоков великой музыки краткое содержание
Все биографы М. П. Мусоргского единодушно утверждают, что свои бессмертные произведения он создавал под впечатлением народной жизни, которую наблюдал на родине, в Псковском крае. Однако псковский период жизни оставался в биографии великого композитора "белым пятном". По неизведанной тропе к истокам творчества М. П. Мусоргского прошел автор этой повести - журналист и краевед-исследователь Николай Новиков.
Книга интересна не только для историка, искусствоведа, музыканта, но и для широкого круга читателей, в том числе для туристов, посещающих Псковский край.
У истоков великой музыки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чтение рукописей поначалу давалось нелегко - из десяти букв я едва угадывал одну-две. Постепенно осваивая старинное правописание, стал разбирать смысл, и новое занятие все больше захватывало меня. А однажды наступил счастливый день, когда приоткрылся "клад": в огромном фолианте "Метрической книги" погоста Пошивкино за 1839 год я обнаружил подлинную запись о рождении Модеста Мусоргского. Прежде во всей мировой литературе фигурировала лишь копия. Почти полтора века таилась запись в Великих Луках. Детальное знакомство с новым документом позволило выявить восемь неточностей, которые повторялись во всех публикациях.
В копии о рождении Модеста были еще две загадки, которые никто не объяснял. Непонятно было, почему таинство крещения совершал священник Рождества-Богородицкой церкви, ведь в Пошивкине - Одигитриевская? И почему крестный Модеста - Иван Иванович Чириков - назван жителем "сельца Богородицина", а не Наумова, где, как известно, жили Чириковы?
Ответы на эти и другие вопросы нашлись в документах архива, и об этом будет сказано позже. Удалось обнаружить уникальные записи о венчании деда и бабки, а также родителей композитора, сведения о старших братьях, которые умерли в младенчестве. Клад обернулся истинным сокровищем.
В "Метрической книге" за 1762 год, знакомясь с ранее неизвестным мне погостом Золовье, обнаружил такие строки: "Ротмистр Григорий Григорьев сын Мусерского села Полутина". А суть записи в том, что прадед композитора жил в селе Полутине. Стал пересматривать "Исповедные росписи" за все годы и обнаружил, куда исчезли из Карева родители композитора. Оказалось, Полутино испокон веков было главным родовым имением Мусоргских. Вспомнились слова Татьяны Григорьевны Сергеевой, урожденной Бардиной, о том, что Мусоргские всегда жили в Полутине. А ведь сомневался тогда в их правдивости! Но эта находка в архиве противоречила утверждениям биографов, и, конечно же, работники музея скептически отнеслись к открытию "новых земель". А меня не покидало страстное желание скорее увидеть древнюю родовую землю Мусоргских. И опять же возникли препятствия: в Кукьинском районе, где находилось Карево, Полутина не было. Не оказалось его в Великолукском и Торопецком районах. Конечно, многие деревни исчезли в послереволюционные годы, а особенно в последние. Но ведь должны остаться следы?
Метрическая книга
Запись о рождении композитора
С помощью Константина Ивановича Карпова выяснил, что какое-то Полутино входит в Западнодвинский район соседней Калининской области. Позвонил в райисполком, и там подтвердили - Полутино есть, только о Мусоргских они ничего не слышали. Я умолил работников райисполкома порасспрашивать старожилов. Просьба была частная, и я мало надеялся на успех. Но буквально через три дня раздался телефонный звонок. Секретарь райисполкома Любовь Игнатьевна Акулова, разделяя мои чувства, радостно сообщила: "В районном архиве обнаружены документы, где упоминается Модест Мусоргский. Есть и старожилы, дальние родственники композитора, и у них есть мебель из усадьбы".
С нетерпением ждал я момента, когда смогу выкроить время для поездки. В один из сентябрьских дней с моим постоянным попутчиком художником Петром Дудко мы отправились в Западную Двину.
В райисполкоме нас встретили приветливо и сразу же показали пухлую папку с документами. Оказалось, что здесь сохранились уникальные планы размежевания земель и межевые акты на владение Полутином дедом, отцом и братьями, как сказано в казенных бумагах: "малолетними Евгением и Модестом Петровыми Мусарскими".
В этот же день мы встретились с пенсионеркой Валентиной Ивановной Ивановой - дальней родственницей Хмелевых, которые состояли в близком родстве с Мусоргскими. Валентина Ивановна рассказала, что ее "бабу Юлю" из имения Хмелевых рисовал знаменитый Илья Репин, который, как известно, был близким и верным другом Мусоргского. Этот портрет, сделанный карандашом, хранился в семье Ивановых, а сейчас находится в городе Ржеве.
В квартире у Валентины Ивановны увидели мы старинные кресла, на которых, как она сказала, "сидел и Модест Петрович, и его родители". Об этих креслах позже мы рассказали в музее, и они теперь находятся в его экспозиции.
Из Западной Двины на автобусе мы поехали в поселок Старую Торопу, который находится рядом с Полутином. Там нас, благодаря хлопотам райисполко- мовцев, уже ждал председатель поселкового Совета Николай Иванович Шмидт. На его стареньком "Москвиче" мы и добрались до Полутина.
Деревня эта сохранилась и по нынешним временам - большая. Серые избы в два ряда тянулись к реке Торопе. У самого берега - остатки фундамента барского дома и несколько деревьев старого парка. Старожилов в Полутине почти не осталось. Петр Иванович Агу, латыш, рассказал, что на усадьбе стоял большой двухэтажный дом с колоннами, до революции в нем жил управляющий Карл Иванович Озолин. В тридцатые годы дом разобрали и перевезли в Старую Торопу, часть парка тогда же вырубили на дрова.
Мы решили побывать там, где стояла родовая церковь Мусоргских. Посыпал мокрый снег, и дорога стала не только не проезжей, но и труднопроходимой. Оставив машину, пошли пешком. Впрочем, слово "пошли" здесь не подходило. Мои попутчики были в резиновых сапогах, а я - в ботинках, и там, где разливались огромные лужи, приходилось садиться Петру "на коркушки". Художник терпеливо шлепал по грязи, каждый раз рискуя уронить "седока".
Торопец
С интересом мы оглядывали землю Мусоргских. От Полутина речка плавными изгибами омывала холмы, по которым были разбросаны деревеньки в два-три дома. Наш провожатый, знавший в этой округе все и всех, называл деревни, а я для верности заглядывал в блокнот - все это были владения, некогда принадлежавшие Мусоргским.
Погода портилась: от дальнего леса двигалась темно-синяя, почти черная туча. Когда она нависла над нами, обрушилась лавина дождя с градом. Идти стало еще труднее, ноги разъезжались на высоких гребнях, нарезанных тракторами. Невольно вспомнились записи в "Исповедных...", сделанные два века назад: "Препятствий к проезду в церковь нет". По воспоминаниям старожилов, крестьяне содержали свои дороги в порядке.
Наконец мы добрались до Золовья. Здесь речка опять приблизилась к самой деревеньке. Из ближнего дома, завидев Николая Ивановича, вышли хозяева, приветливо поздоровались. Молодой мужчина, механизатор здешнего колхоза, повел нас на место, где раньше стояла церковь. Все поросло бурьяном, но в одном месте кто-то расчистил слой земли, и мы увидели плиточный пол храма. Это было чудо - среди травы сияли разноцветной радугой керамические плитки, уложенные как паркет. Такого пола в сельских храмах видеть не приходилось. А ведь строили церковь местные мастера, по заказу деда композитора, как я уже знал по документам. Из соседней избушки вышла пожилая женщина. Шмидт познакомил нас. Колхозница-пенсионерка Ольга Алексеевна Коношенкова рассказала, что знала от своих предков:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: