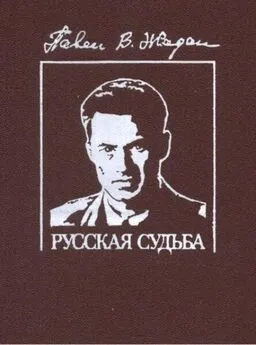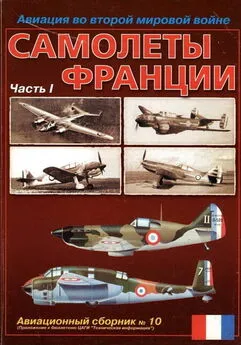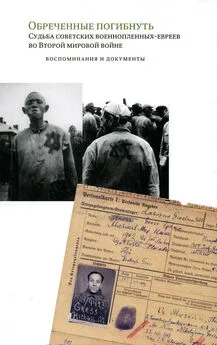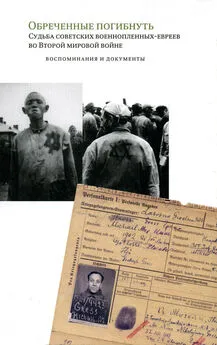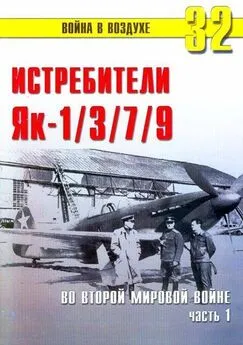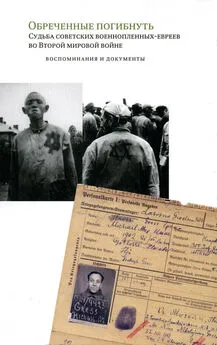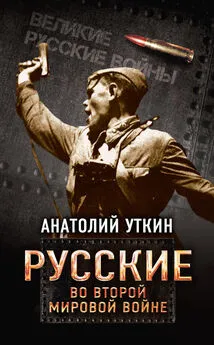Павел Жадан - Русская судьба : Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне
- Название:Русская судьба : Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-85255-079-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Жадан - Русская судьба : Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне краткое содержание
Книга «Русская судьба: Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне.» впервые была издана издательством «Посев» в Нью-Йорке в 1989 году. Это мемуары Павла Васильевича Жадана (1901–1975), последнего Георгиевского кавалера (награжден за бои в Северной Таврии), эмигранта и активного члена НТС, отправившегося из эмиграции в Россию для создания «третьей силы» и «независимого свободного русского государства». НТС — Народно Трудовой Союз. Жадан вспоминает жизнь на хуторах Ставропольщины до революции, описывает события Гражданской войны, очевидцем которых он был, время немецкой оккупации в 1941-44 годах и жизнь русской эмиграции в Германии в послевоенные годы. Его книга — интересное и убедительное свидетельство рядового участника трагической судьбы русской истории и русского рассеяния XX века.
Русская судьба : Записки члена НТС о Гражданской и Второй мировой войне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На вокзале мы делились впечатлениями пережитого в Екатеринодаре дня. Наш новый знакомый уезжал на. фронт на следующий день. Ему — старому фронтовику, воевавшему в Добровольческой армии со дня ее основания, было особенно горько смотреть на разгул, спекуляцию и беззаботную жизнь в тылу. Высказанная им мысль: «С этой тыловой рванью нужно поступать так, как поступают большевики — мобилизовать и на фронт!» вполне соответствовала нашему настроению.
По приезде в Ставрополь Алексей Каплан, Павел Будилов и я старались поступить в одну часть, но это не удалось. Алексей поступил в казачьи части, где служил один из его братьев, Павел — в Черноморский флот, а я в кавалерию Девятого уланского Бугского полка. В мае мы окончили гимназию и сразу же уехали в свои части. Я поехал в Таганрог, где находился обоз второго разряда моего полка. Отец провожал меня словами: «Вперед не рвись, но и от других не отставай».
Меня зачислили в учебную команду 21 мая 1919 года. Командиром был ротмистр Булгаков. Занятия были трудные и напряженные. В кратчайший срок нужно было пройти не только кавалерийские и пешие построения, но и верховую езду, вольтижировку, употребление пики верхом на лошади и в пешем строю. Много времени занимали устные занятия и изучение уставов. Поздно вечером, совершенно измотанные, мы валились в постели, чтоб рано утром снова начинать трудный день. В учебной команде были исключительно вольноопределяющиеся, поэтому занятия проходили успешнее и быстрее обычного. Те, кто быстро усваивал верховую езду и построения, выделялись в отдельные группы. Успевающие в этих группах, по определению ротмистра Булгакова, считались закончившими учебную команду и отправлялись на фронт. С детства я ездил верхом на лошади с седлом и без седла, быстро освоился с построениями, и через три недели ротмистр поздравил меня с окончанием учебной команды.
3. На фронте
На следующий день я уехал на фронт. Бои в июне 1919 года шли севернее и западнее Полтавы. В Полтаве я узнал, что мой полк находится около Конотопа. Верст за 30 на небольшой станции выяснилось, что дальше поезда не идут, так как под Конотопом идут бои, а в тылу нашей кавалерии остались группы разбитых красных войск, которые стремятся прорваться к своим. Идти дальше пешком было равносильно самоубийству. На станции я заметил бравого поручика в папахе с волчьим хвостом, требовавшего от начальника станции паровоз, чтоб ехать дальше. Я подошел и представился, сказав что и мне нужно ехать в том же направлении. Поручик был доволен и попросил меня узнать, есть ли у нас еще попутчики. На станции было всего несколько человек, и из них двое — солдат и унтер-офицер — тоже ожидали возможности пробраться к Конотопу. Нас оказалось уже четверо, поручик стал требовать настойчивее, и начальник станции наконец дал нам паровоз и один вагон.
До следующей станции мы добрались благополучно. Там я узнал, что обоз первого разряда нашего полка находится в соседнем селе. Я разыскал его, получил верховую лошадь и к вечеру уже был в полку. Старший офицер Девятого уланского Бугского полка полковник Выгран назначил меня в первый взвод первого эскадрона. Командиром эскадрона был ротмистр Явленский, взводным командиром — корнет Доброгорский, а взводным — старший унтер-офицер Горлов. Вахмистр эскадрона Денега, старый солдат полка, был уже в чине подпрапорщика и впоследствии был произведен в офицеры за боевые заслуги. Горлов и Денега, простые люди, хорошо обращались с подчиненными, были настоящими друзьями, которых все уважали и слушались, а в бою были исключительными храбрецами.
На следующий день, рано на заре, мы выступили и, быстро продвигаясь, стали обходить Конотоп с юга. Вскоре мы увидели, как из прикрытия показалась красная кавалерия, примерно целый полк, и стала рассыпаться в лаву, прикрывая подход к городу. Наш полк перешел в боевое построение и на рысях, развернутым фронтом, стал приближаться к городу. Красные открыли ружейный огонь. Когда мы подошли довольно близко к лаве красных, раздался приказ: «Шашки вон, пики к бою, в атаку марш, марш!» Полк перешел в галоп, потом в карьер, и с криком «ура!» мы атаковали красных. Они не выдержали нашего натиска и стали отходить, разбившись на три группы, одна — вправо, другая — влево, а центральная группа, примерно в два эскадрона, отступала к роще, расположенной перед городом. Наш первый уланский эскадрон оказался в центре, и мы стали их преследовать.
Мы уже совсем настигали их, как вдруг у красных произошло замешательство. Лошади и всадники стали куда-то проваливаться и падать. Некоторые всадники соскакивали с лошадей и, с трудом переступая, двигались нам навстречу. Когда мы подскакали ближе стало ясно, что красные влетели в болото. Всадников мы взяли в плен, большинство лошадей удалось вытащить. Лошади у красных были лучше наших и мы стали выбирать, кому какая нравилась. Я взял темно-гнедого крепкого коня, с которым не расставался во все время нашего похода до Орла и в боях с партизанами под Таганрогом. Под натиском нашей пехоты с востока и конницы с юга и северо-востока, город Конотоп был занят без труда и красные стали отходить на северо-запад.
Наш полк задержался в Конотопе на два дня и нам разрешили осмотреть город, пре-упредив, чтобы мы не заходили в дома и ни в коем случае ничего ни у кого не брали. Я шел с Цыхоней, самым молодым нашим вольноопределяющимся (ему было пятнадцать лет), по одной из главных улиц. Вдруг из дома вышел солдат нашего взвода Семенчук, нагруженный какими-то вещами, а за ним выскочили две плачущие женщины, умоляя им что-то вернуть. Когда Семенчук приблизился к нам, мы в один голос потребовали, чтоб он немедленно возвратил все женщинам. Улыбаясь, Семенчук заявил, что это не наше дело. Схватив его с двух сторон, мы сказали, что не позволим позорить наш полк грабежами, и потребовали возвратить все вещи добровольно, пригрозив, что иначе мы силой заставим его это сделать. Видя нашу решительность, Семенчук возвратил награбленное. Мы не огласили этот случай, но предупредили, что если подобное повторится, то доложим командиру.
Через два дня наш полк выступил в северо-западном направлении. Почти в непрерывных боях мы прошли Нежин, Ахтырку, Сумы и подошли к реке Сейм на линии Курск — Чернигов. За Сеймом, на стыке трех губерний, Черниговской, Курской и Орловской, природа стала резко меняться, а с нею и условия жизни крестьян. Почва становилась более песчаной, постройки в деревнях и селах меньше и беднее, чем на юге. Эта бедность особенно поражала в Орловской губернии. Дворы были пусты, не было необходимого инвентаря; одежда, обувь, избы — все поражало своим убожеством. Жители на юге, в надежде на лучшее будущее, доброжелательно относились к Добровольческой армии, хотя война всем надоела и всем хотелось спокойной жизни. В Орловской, Курской губерниях и в других областях к северу, куда продвигалась Добровольческая армия, крестьяне вначале присматривались к белым, как бы сравнивая их с ушедшими красными. Скоро они увидели, что белые менее требовательны, а иногда и деньги предлагают за еду и полученные услуги. Однако появление местных помещиков с требованиями к крестьянам возместить убытки за пользование их землей во время пребывания большевиков, пугало крестьян и отталкивало их от Белой армии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: