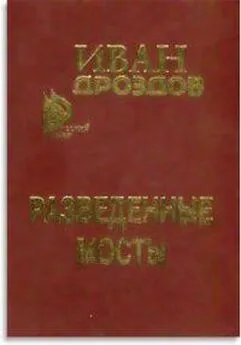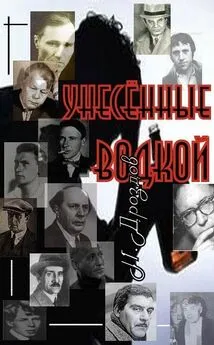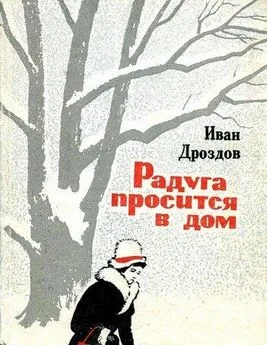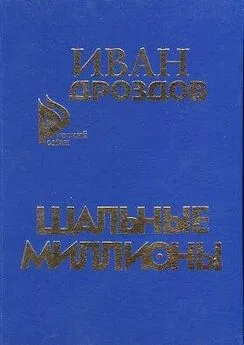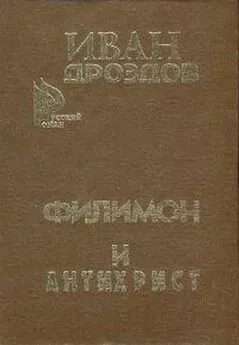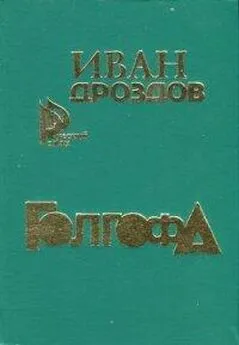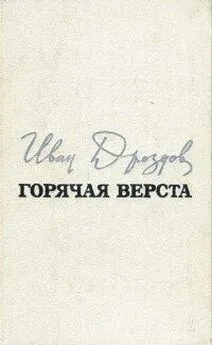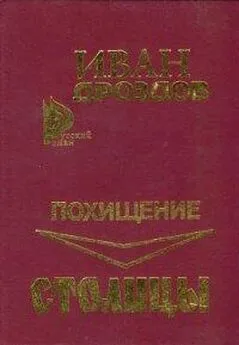Иван Дроздов - Разведенные мосты
- Название:Разведенные мосты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прана
- Год:2005
- ISBN:5-86761-028-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Дроздов - Разведенные мосты краткое содержание
Третья книга воспоминаний Ивана Дроздова, отражающая петербургский период его жизни, по времени совпадающий с экономическими и политическими потрясениями в нашей стране.
Автор развернул широкую картину современной жизни, но особое внимание он уделяет русским людям, русскому характеру и русскому вопросу.
Разведенные мосты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Большую часть времени я проводил на даче, в поселке Семхоз под Сергиевым Посадом. Там жили двадцать писательских семей. Это были русские литераторы. Нас предавали анафеме. Еврейские критики красок на нас не жалели; если уж примутся топтать, то живого места на нашем теле не оставалось. Десять разгромных статей обрушили на Ивана Шевцова за его роман «Тля». Три статьи обвалила «Литературная газета» и на меня за роман «Подземный меридиан». Кусали поэта Игоря Кобзева, кидали камни в каждый поэтический сборник Владимира Фирсова, очевидно испугавшись его возвышения над поэтической шпаной из одесской школы после того, как о Фирсове отозвался с похвалой Михаил Шолохов. Но потом заметили: ругань еврейских критиков имеет и обратную сторону: привлекает к русскому литератору читателя. Умный читатель понимал: раз ругают, значит, там что-то есть. И птенцы литературных генералов Чаковского, Пастернака, Сельвинского, как мы понимали, принимают решение: если мы пока не можем русским полностью закрыть ход в издательства, то окружим их имена стеной молчания. И для нас начинается тяжёлое время подполья: мы есть, но нас вроде бы и нет. И эта тактика тайно поощрялась руководством нашей родной коммунистической партии, куда в то время всё больше наползало «агентов влияния», то есть молодцов, состоявших на службе у тайных разрушителей нашего государства.
Но вернусь к тому времени, когда я поселился в Питере.
Глядя, как я закладываю в ящики стола папки, Люша спросила:
— А эти рукописи готовы к печати?
— В общем, да. Надеюсь, придёт и для них черёд, но пока наше общество не может их переварить. Это как для меня грибы: я их люблю, но желудок протестует.
— Я, конечно, понимаю: у писателя бывают и такие рукописи. К примеру, у Пушкина есть стихотворения, которые он не мог напечатать. Драма «Борис Годунов» будто бы пять лет пролежала у него в столе. А поэма «Медный всадник» и вовсе не печаталась при жизни. И все-таки писатель должен уметь обводить вокруг пальца редакторов и цензуру. Таким искусством вроде бы обладали Иван Андреевич Крылов и Салтыков-Щедрин. Ты меня извини, но я по привычке музейного работника невольно прощупываю каждый экспонат, попавший ко мне в руки.
С ответом я не торопился. Понимал, что я для неё не только новый муженёк, но ещё и экспонат, который требует изучения и оценки. Первый её муж, как я успел его понять, собирая материал для книги о нём, был экспонат нелёгкий, и во многом так и остался неразгаданным, а тут ещё и второй выложил на стол целый ворох своих загадок. «Повезло же дамочке!» — думал я, устремляя на неё взгляд, в котором копошились и мои собственные вопросы. Я никогда не любил говорить о своих так называемых творческих планах, и особенно же о рукописях, лежащих у меня на столе, а тут о моих трудах хочет знать человек, связавший со мной жизнь, и знать он хочет не из простого любопытства, а из желания мне помочь, принять участие в моей литературной судьбе, не представляя пока ещё, как она бывает нелегка, судьба писателя.
Одним словом, Люша, сама того не подозревая, погружала пальчики в моё сердце и пока ещё не слышала моей боли, моих страданий.
Она невольно взяла на себя роль следователя, а меня поставила в положение подозреваемого в каких-то неблаговидных делах и с нетерпением ждала моих ответов.
Покойная Надежда мне таких вопросов не задавала; на каком-то подсознательном уровне она понимала мой замысел писать непроходные книги. Помнится, она лишь однажды мне сказала:
— Ты надеешься на дочь, на внуков?..
Я спросил:
— А ты не надеешься?
— Я — нет. Я даже уверена, что после нашей смерти в лучшем случае они бросят рукописи на чердак, а в худшем будут растапливать ими печь.
На этот раз, выслушав Люшины вопросы, я долго молчал. Горькие это были для нас обоих минуты. Но я понимал: отвечать надо серьёзно; ведь нам предстояла совместная жизнь. Надо было не только понимать друг друга, но и чувствовать сердцем. Для начала ответил общей фразой:
— Рукопись это дитя, но как бы ещё не родившееся. Если суждено ей родиться, она будет книгой.
— Мудрено, но, разумеется, верно.
Люша подсела к столу, взяла первую рукопись. Она называлась «Геннадий Шичко и его метод».
— Ты уже написал о Геннадии книгу? Но в журнале очерк о нём назывался интересно: «Тайны трезвого человека», а тут заголовок сухой, брошюрный.
— Да, брошюрный. Но то был очерк, а это — книга. И я писал её с надеждой, что она станет учебником для отрезвителей, работающих по методу Шичко. Тут всё должно быть просто и ясно.
— Пожалуй, ты прав. Но эта-то книга проходная. В ней, надеюсь, нет никакой политики.
— В Москве её напечатать не удалось. Нашлось много противников отрезвления нашего народа. Стеной встали, и рукопись мне вернули.
— Ну, эту рукопись я возьму на себя. Подниму всех знакомых и незнакомых людей. Тут недавно принято решение о создании музея Геннадия Шичко. Директором уже назначен Владимир Бурлицкий. В прошлом он и сам был пьяница и отрезвился по методу Геннадия. Он читал твой очерк «Тайны трезвого человека»; я уверена, что он приведёт в движение свои еврейские рычаги и напечатает книгу.
Она отложила рукопись в сторону и подвинула к себе другую папку. В ней рукопись романа «Баронесса Настя».
— О! Как интересно названа. О чём же она?..
— Это роман о войне.
— О войне? — проговорила Люша угасшим голосом. — Но почему баронесса, и почему Настя?..
— А почему ты спрашиваешь таким упавшим голосом? Наверное, полагаешь, что если уж о войне, то это неинтересно? Съеденная тема, о войне уж книг не покупают?
— По-моему, да. Книг на эту тему написано много. А, кстати: почему всё-таки баронесса-то?..
— Есть книги, выросшие из газетной заметки. К примеру, история студента Раскольникова. Ну, вот — и эта. Я прочитал в газете заметку о русской девушке, хорошо знавшей немецкий язык и засланной в тыл врага. Там она стала баронессой и прожила всю жизнь. Заметка была короткой, но у меня в голове она, как искра, высекла сюжет и вот… получился роман.
— Ну, и… почему же его не напечатали?
— Я показал тут масонов, немецкого еврея-банкира, институт, где готовят молодых евреек в жёны выдающимся людям. Ну и прочее такое, чего у нас не любят. Толкался в разные издательства — не берут.
— Ладно! — заключила Люша наш разговор. — Мы будем всё это читать, а уж там посмотрим. Признаться, я не верю, что из того, что ты написал, нельзя ничего печатать. Нельзя печатать у нас, поеду в другие страны. Буду искать издателей.
На этом Люша свои вопросы закончила. Видимо, опасалась переборщить и заехать в такую глубину, где разговор наш мог стать для меня неприятным. Я оценил её деликатность и со своей стороны не стал расспрашивать, а как это она, сохраняя за собой службу во Дворце культуры, собирается ещё, подобно нашим диссидентам, побывать за границей и устроить в частных издательствах мои рукописи. Не знал я, что она уже тогда для себя решила оставить работу и посвятить все свои силы на издание моих произведений. Не знал и того, что у неё были деньги для поездок за границу. Всё это мне откроется потом, и в недалёком же будущем одна за другой станут появляться на свет мои книги, обретая крылья и множа ряды моих читателей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: