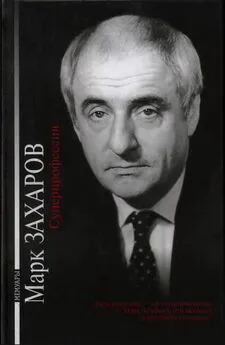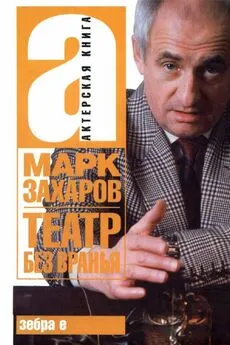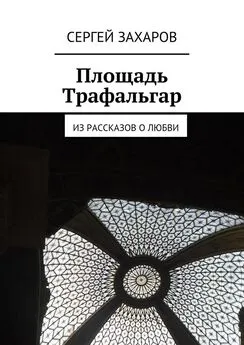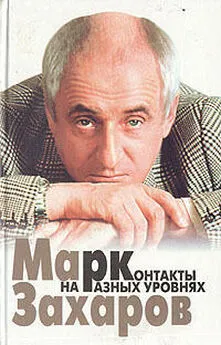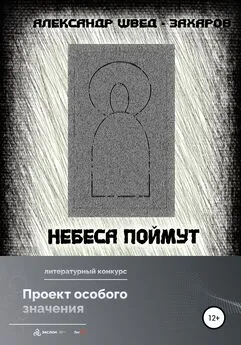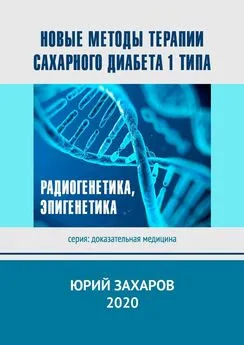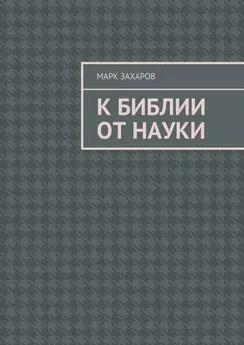Марк Захаров - Суперпрофессия
- Название:Суперпрофессия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00384-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Захаров - Суперпрофессия краткое содержание
По мнению Марка Захарова, режиссер — это суперпрофессия, ибо он совмещает в себе черты драматурга и актера, художника и инженера и еще с десяток театральных профессий. А еще режиссер должен быть поэтом и политиком, дипломатом и хозяйственником, философом и… иногда просто тираном.
Если режиссер — это действительно суперпрофессия, то нельзя не признать, что Марк Захаров в ней является суперпрофессионалом. Иначе чем объяснить, что каждая постановка в возглавляемом им Ленкоме становится подлинным событием для театралов, а любители кино видят в фильмах Захарова только один недостаток — то, что они выходят на экраны далеко не ежегодно…
В своей книге Марк Захаров вспоминает о нелегком пути к вершинам своей суперпрофессии о многих забавных, а порой и грустных эпизодах, приключившихся на театральных репетициях и киносъемках, рассказывает об актерах труппы Ленкома Евгении Леонове и Татьяне Пельтцер, Олеге Янковском и Инне Чуриковой, Николае Караченцове и Леониде Броневом, а также о спектаклях и фильмах, уже вошедших в золотой фонд нашего искусства — "Тиле" и "Мюнхгаузене", "Юноне и Авось" и "Обыкновенном чуде", "Поминальной молитве" и "Убить Дракона"…
Издательство благодарит за предоставленные фотоматериалы А. Стернина и В. Плотникова
Суперпрофессия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я никогда не видел прежде в театре, чтобы монтировщики декораций играли столь важную роль в спектакле. Понимаю, что все уже открыто и опробовано. Может быть, кто-то где-то когда-то уже пробовал нечто подобное, но для нас это было очень интересное и очень новое взаимодействие технических работников с актерами. Два взаимопроникающих, одновременно существующих и редко замечающих друг друга мира. Если угодно, материализация некоторых научных и философских гипотез.
И все-таки самым интересным и новым было для меня другое: неожиданные результаты, полученные нами в репетиционном зале, когда спектакль был уже вчерне выстроен.
Не скрою, мы очень многое досочинили, додумали из того, что в пьесе было только заявлено пунктиром. Не остановились и перед сочинением совершенно новых диалогов. Спектакль шел в Саратове по пьесе Н. Садур, а мы сочиняли свою самостоятельную версию этой же пьесы. Мы сочиняли мистификацию. И совесть наша была чиста. Мистификаторы, как правило, не раскаиваются.
Репетиционный период в репзале я затянул не случайно. Именно там появились потом актерские открытия, которые не удалось полностью перенести на большую сцену. Не потому, что это невозможно в принципе, а просто еще не научились. Думаю, в XXI веке научимся.
Часто в своей репетиционной практике в рабочем порядке я временно подменяю предлагаемые обстоятельства, то есть прошу смоделировать процесс, который потом будет изменен, на более верный и осмысленный. Но предварительно такая подмена помогает артистам нащупать новые возможности своей биологии, а режиссеру стимулировать постановочную фантазию.
Выстраивая серию комедийных ситуаций, мы постепенно все вместе обнаружили, что в некоторых случаях откровенно дилетантское, непрофессиональное актерское существование может оборачиваться гомерически смешным эффектом. (Напоминаю, что речь пока о работе в репетиционном зале.)
Косясь в сторону некоторых гостей, посещавших наши репетиции, я очень часто предлагал:
— Сыграйте, пожалуйста, так, чтобы все подумали: зачем же еще и этого-то артиста держат? Почему не увольняют? Это же не артист.
Наташу Щукину просил примерно так:
— Попробуйте, чтобы все поняли, что театральную школу девочка не закончила — выгнали. Девочка совсем никудышная. Общаться с артистами боится, все слова выговорить не может, сколько ни старается, но выступать на сцене ей очень хочется.
Или так:
— Скажите, мол, спасибо, что вышел. Организм изношенный, психика с аномалиями, сам процесс мышления увлекает, но пока не получается. Да и вряд ли получится. Если очень хотите ждите.
В подобных режимах актерского (точнее — биологического) существования лидерство сразу же захватил Виктор Викторович Раков в роли Манилова. На некоторых репетициях он придавал своему естеству редкую ущербную разбалансированность. Нервная система была не просто испорчена, но подлым образом пошаливала вместе с ней и психика, пластика страдала такими аномалиями, что было всегда неизвестно, куда его поведет, куда закинет. Понятно, что нужно лечиться, а не выступать не сцене.
Борис Николаевич Чунаев на репетициях в репзале буквально укладывал людей на пол, вызывая такой хохот, который сам по себе — уже аномалия. Ему удавалось моделировать окончательное угасание интеллекта. Разум его на глазах сворачивался и приходил в упадок. Пошаливало зрение и голосовые связки. Говорил очень громко от общей и окончательной бездарности.
Я просил, чтобы у всех присутствующих возникал один главный вопрос:
— За какие такие заслуги этот человек мог получить звание заслуженного артиста?
На этих странных и очень веселых репетициях я понял, что высокопрофессиональный актер с хорошо тренированной психикой может привести себя в явно непрофессиональное состояние: ничего не наигрывая, не притворяясь, с предельной искренностью сыграть плохо, потом — очень плохо, потом — еще хуже, а потом — уже так безнадежно, что это супердурное актерское качество превращалось на глазах в эстетическую категорию. Как в живописи.
Есть картины, которые как бы плохо нарисованы, а являют собой явную художественную ценность. Особенно это качество просматривается в нарочито примитивных, наивных изображениях.
В актерском деле подобное качество пока, по большому счету, еще недостижимо. Мы его, как я уже обещал, окончательно освоим в следующем тысячелетии. В «Мистификации» нам удалось воспользоваться этой новой комедийной эстетикой частично. Небольшими дозами. Скажем, то, как показывает С. Ю. Степанченко в роли Собакевича своего отца, глядящего на медведя, — смешная глупость. Но изящная. Кстати, смешная, потому что, по-моему, формальная. Мы привыкли, что слово «формально» в нашей профессии дурное. На самом деле — не всегда так. В жизни мы далеко не все делаем глубоко и серьезно. И далеко не всегда подключаем к делу весь организм. На некоторые слова и действия иногда не хватает ни сил, ни желания.
Иногда специально воздействуем на партнера с нарочитым «формализмом». Вообще, нехватка сил и общая измученность от нездорового образа жизни — при настойчивом желании, чтобы зрители за это дорого платили — по-моему, не слишком складно сформулированная, но действенная предпосылка для создания новой комедийной ситуации. Когда-нибудь получится. Создадим.
Анализируя работу над спектаклем «Мистификация», ловлю себя на мыслях о весьма банальной, но весьма существенной закономерности: когда в театре созидается талантливый или, скажем скромнее, культурно выстроенный спектакль — параллельно с этим процессом происходит рост и становление актерских имен. Разумеется — если режиссеру отпущено Богом умение создавать сочный, зигзагообразный действенный пунктир для развития сценического образа. Иногда, чтобы превратиться в мастера, вовсе необязательно играть центральную роль и постоянно маячить на сцене — иногда достаточно появиться в добротно выстроенном эпизоде, выразительно и разнообразно просуществовать в спектакле недолгое время и обрести солидный запас мастерства, усилить свою биологическую заразительность, артистизм и прочие актерские достоинства.
В «Мистификации» временами очень интересно, а временами великолепно существует человек замечательной актерской одаренности — Дмитрий Певцов. Здесь же очень выразительно дебютировала Анна Большова в роли Панночки — это, по существу, центральная женская роль. Помимо Большовой и Певцова, весьма яркий вклад в общее дело внесли исполнители фактически эпизодических ролей: Сергей Чонишвили, Татьяна Кравченко, Сергей Степанченко, Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Сирин, Игорь Фокин, Павел Капитонов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: