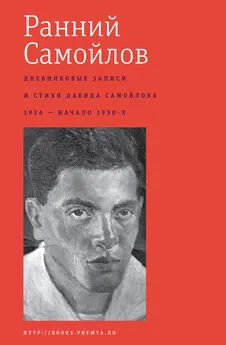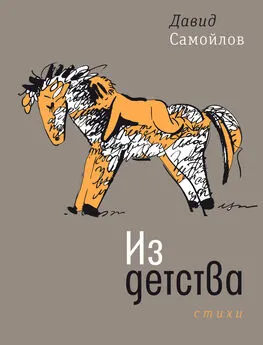Давид Самойлов - Перебирая наши даты
- Название:Перебирая наши даты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00221-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Самойлов - Перебирая наши даты краткое содержание
Поэт Давид Самойлов (1920 — 1990) не успел закончить свои воспоминания, а может быть, и не ставил перед собой такой задачи, ибо книга ощущалась им как река жизни — с бесконечным охватом событий, лиц, постоянной игры ума… Точку поставила смерть. Но вышло, как он и задумывал: `Памятные записки` получились яркими и значительными. О себе, о времени, о друзьях — П. Когане, М. Кульчицком, Б. Слуцком, С. Наровчатове, Н.Глазкове — о тех, кто возмужал и окреп или геройски погиб в `сороковые роковые`. Немало страниц посвящено Б. Пастернаку, Н. Заболоцкому, А. Ахматовой, А. Солженицыну… `Памятные записки` органично продолжены страницами дневников, где многие записи — отточенные до афоризма характеристики века, судеб, характеров.
Перебирая наши даты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правдолюбцы болезненные, лихорадочные, за правду не пожалеют ни себя, ни других. Они на виселицу готовы пойти ради правды, но и не взыскующих града готовы на ту же виселицу отправить. К счастью, болезнь правдолюбия чаще не больше, чем насморк, выражается так же гнусаво и излечивается так же легко.
Важнее, пожалуй, не любить правду, а знать ее. И это знание уже не болезнь, но мудрость.
Правдознатцы больше знают о правде, чем правдолюбцы, которым их правда кажется главной, самой последней и достойной подвига или инквизиции. Правдознатцы хотят о правде дознаться. Правдознатцам не только своя правда нужна, но и чужая. И знание их — несчастливое. Знают, что правда горька есть.
Высший тип — праведники, которые высказывать правду не умеют, да и понять ее не тщатся, они живут правдой. И потому независимы ни от болезни, ни от знания. Живут они правдой по инстинкту, по устройству натуры. Правдолюбцам они кажутся трусливыми, правдознатцам — глупыми. А они готовы, может быть, признать и то, и это. Живут, как умеют жить. Боясь иногда пустяков. Но главного — не боясь: врага, насилия, смерти.
В каждое время есть свой главный тип. В одно — правдолюбцы, в другое — правдознатцы, в третье — праведники.
Нам сейчас нужней правдознатцы. Но скоро понадобятся праведники…
Праведником был Семен Косов.
Тянулась длинная голодная осень. Потом подмерзли болота. Мы с Семеном часто стояли ночью на посту и, поскольку противник не собирался наступать, только изредка поглядывали в заборную амбразурку и беседовали вполголоса о своих делах. Из московской жизни, о которой я рассказывал, Семена больше всего интересовал зоопарк. И я, с детства помня Брема, сообщал Семену сведения о жизни слонов, крокодилов и зебр.
Когда оборону прикрыло снегом, а нам выдали валенки, все приняло вид еще более деревенский, и наша жизнь текла размеренно, действительно, как в старинном острожке на граничном краю земли. Еще затемно, перед рассветом, приезжала кухня, — издалека по морозцу было слышно, как скрипят полозья саней и ругается Васька — повар. Старшина приносил сухари, махорку и сахар, отмерял гильзой от противотанкового ружья водку.
На той стороне у немцев гремело по настилу, тоже ехала полевая кухня.
Потом чистили винтовки, пулемет, расчищали траншейки в сугробах. В обед приходил почтарь, приносил газеты и письма. Письма перечитывались про себя и вслух.
Сменялись дневные посты, заходил замполит роты. Порой — кто- нибудь из соседней — узнать новости.
Дни были короткие. Часа в четыре смеркалось. Батальонный связной приносил ночной пропуск: пароль и отзыв. Время днем отмерялось по тлеющему тряпичному жгуту, сколько сгорит. Ночью — по звездам. Перед нами, над обороной, стояло семизвездье, называвшееся Качиги. Когда Качиги заходили за березу, росшую рядом с дзотом, была полночь. Приходил комбат или ротный со связным — проверять посты. Мимо нас в белых маскхалатах разведчики уходили на нейтральную полосу. Под утро возвращались.
Распорядок, однако, нередко нарушали обстрелы, неожиданные перестрелки.
Ударял пулемет. Немцы били трассирующими. Разрывные щелкали о стволы, ветки и блиндажи, как каленые орешки. Одному пулемету отзывался другой. Включались и мы, наугад длинными очередями прошивая кустарник на подступах к позиции. И как деревенские собаки, вдруг разбуженные, на всем участке лаяли пулеметы. Начинали поддавать минометчики, и получалась невообразимая кутерьма, порой не смолкавшая до рассвета. И так же внезапно, как началась, стихавшая, как только обе стороны понимали, что ночной поиск или разведка боем только почудились придремавшему часовому.
При сем бывали и потери. По обороне сообщалось: тот убит, тот ранен. Тихая наша война тоже была войной, и Кабанов горестно восклицал каждый раз:
— Эх, жизня, она не плошает, она все к лучшему идет!
Мои отношения с ним были лишены сердечности. Так же не близки мне были и другие члены расчета. Поэтому я все более привязывался и привыкал к Семену Косову.
Семен, как и большинство солдат горно — болотной бригады, принадлежал к русской народной культуре, которая в наше время почти стерлась с исчезновением ее носителей — крестьян.
Эта культура пережила многие века и стала органической частью национальной культуры, в ней исчезнув и растворившись— в гениях XIX века, прежде всего — в Пушкине.
Эта культура уже не соответствовала нашему времени — и нелепая мечта: ее возродить — с ее мифологией, прагматической философией, с ее историческими и политическими понятиями, с ее мироощущением, с коллективизмом, с индивидуальным сознанием, с ее медициной, гигиеной, универсальным умельчеством, с ее правилами поведения и с самым ценным, что в ней было, — с ее словесным искусством.
Евтушенко упрекнул меня как‑то за образ «конь тонкий, как рука». Между тем образ этот принадлежит речи Семена Косова, который про зимнюю дорогу говорил: «Как яичком накатана». Это было не творчество, а речь. Речь Семена была полна новых для меня значений; он учил меня понимать сны, толкование которых сродни звуковым ассоциациям поэзии: девки — к диву, лошадь — ко лжи. Однажды мне приснилось, что спорю с отцом.
— С отцом дрался — домой придерешь, — сказал Семен.
Мудрость Семена была не от чтения, а от опыта, накопленного в народной речи.
Мне порой казалось, что у него нет собственных мыслей, а только готовые штампы на все случаи жизни. Теперь я понимаю, что мы тоже говорим штампами, но цитируем неточно и небрежно, наши знаки, может быть, индивидуализированны, но бледны по речи. Народ купается в стихии речи, отмывая в ней мысли. Мы же речью только полощем горло.
Самым талантливым среди всех, владевших речью, был у нас Каботов Иван Васильевич, пожилой пехотинец, бывший волжский матрос или бакенщик.
Стрелковое отделение поздней осенью располагалось некоторое время в нашей землянке. И всех забавляли бесконечные шутки, прибаутки и присловья Каботова, а также его изобретательный неругательный и необидный мат. Во время обстрела при каждом близком разрыве мины Иван Васильевич выдавал матерное проклятие немцам, обычно в рифму, и никогда не повторялся.
Поздним вечером, сменясь с поста, промокший и продрогший, он долго сушил портянки и шинель около печурки, устроенной из большого молочного бидона, и спрашивал, если не все спали: «Сбрехать, что ли, сказку?»
Сказки он рассказывал плутовские, по большей части непристойные, о солдате, идущем с войны («вроде как мы с вами»), и о черте, строящем солдату замысловатые козни. Иван Васильевич был солдатский Андерсен, он умел развеселить и утешить. И сказки плел до поздней ночи, пока не уснет последний слушатель, а может, и потом рассказывал для самого себя. Спал он мало. Я его спящим не помню.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
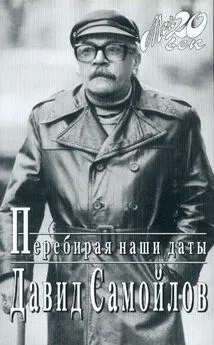

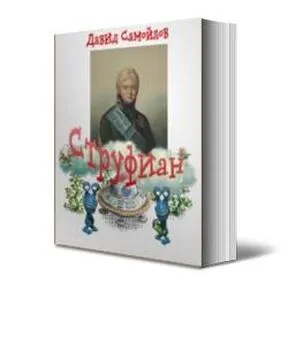
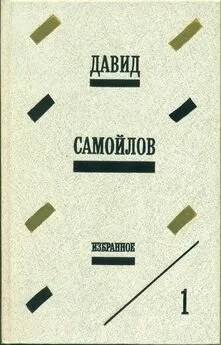
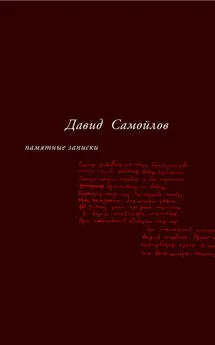
![Давид Самойлов - Ранний Самойлов: Дневниковые записи и стихи: 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/1143892/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres.webp)