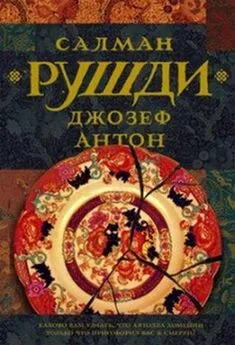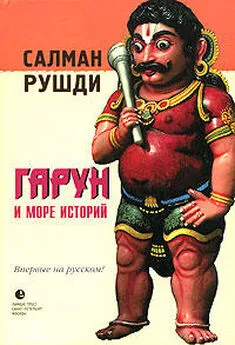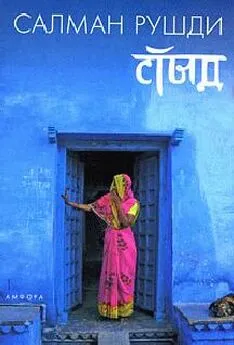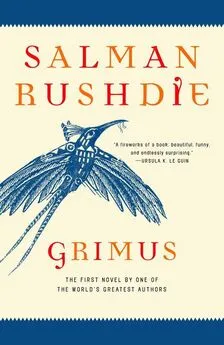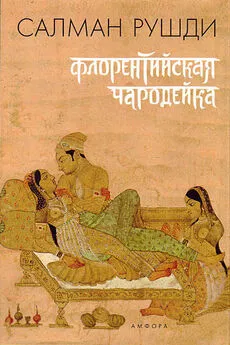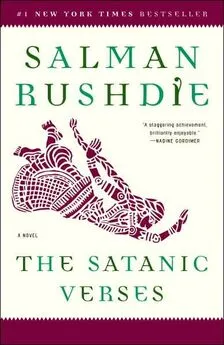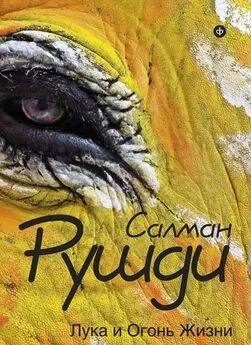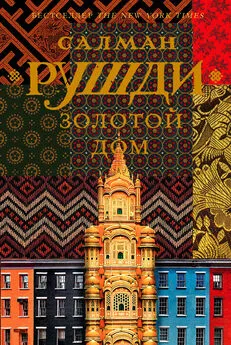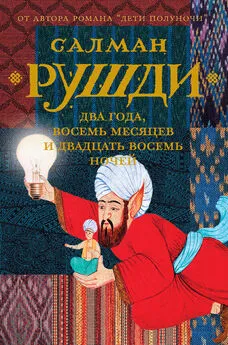Салман Рушди - Джозеф Антон
- Название:Джозеф Антон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: CORPUS
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-45232-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Салман Рушди - Джозеф Антон краткое содержание
14 февраля 1989 года, в День святого Валентина, Салману Рушди позвонила репортерша Би-би-си и сообщила, что аятолла Хомейни приговорил его к смерти. Тогда-то писатель и услышал впервые слово «фетва». Обвинили его в том, что его роман «Шайтанские айяты» направлен «против ислама, Пророка и Корана». Так начинается невероятная история о том, как писатель был вынужден скрываться, переезжать из дома в дом, постоянно находясь под охраной сотрудников полиции. Его попросили придумать себе псевдоним, новое имя, которым его могли бы называть в полиции. Он вспомнил о своих любимых писателях, выбрал имена Конрада и Чехова. И на свет появился Джозеф Антон.
* * *
Это удивительно честная и откровенная книга, захватывающая, провокационная, трогательная и исключительно важная. Потому что то, что случилось с Салманом Рушди, оказалось первым актом драмы, которая по сей день разыгрывается в разных уголках Земли.
«Путешествия Гулливера» Свифта, «Кандид» Вольтера, «Тристрам Шенди» Стерна… Салман Рушди со своими книгами стал полноправным членом этой компании.
The New York Times Book Review
* * *
Как писатель и его родные жили те девять лет, когда над Рушди витала угроза смерти? Как ему удавалось продолжать писать? Как он терял и обретал любовь? Рушди впервые подробно рассказывает о своей нелегкой борьбе за свободу слова. Он рассказывает, как жил под охраной, как пытался добиться поддержки и понимания от правительств, спецслужб, издателей, журналистов и братьев-писателей, и о том, как он вновь обрел свободу.
Джозеф Антон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многие участницы громко и небезосновательно недоумевали, почему в рабочих группах конгресса так мало женщин. Сонтаг и Гордимер, в рабочие группы входившие, общего возмущения не поддержали. Сонтаг даже высказала соображение, что «литература — это не работодатель, предоставляющий для всех равные возможности». Довод Сонтаг настроения недовольных не улучшил. Как, собственно, и сделанное им замечание, что, мол, худо-бедно несколько женщин в рабочие группы включены, тогда как он один представляет в них Южную Азию, то есть, иначе говоря, шестую часть человечества.
В Нью-Йорке тех дней придавали литературе большое значение, дискуссии между писателями широко освещались в прессе и, судя по всему, кого-то интересовали и за пределами узкого книжного мирка. Джон Апдайк пропел целую хвалебную песнь синим американским почтовым ящикам, повседневным символам свободного обмена мнениями и идеями, чем немало озадачил аудиторию, состоявшую преимущественно из иностранцев. Дональд Бартельми большую часть времени был пьян, а Эдвард Саид — исключительно дружелюбен. На приеме в Дендерском храме Росарио Мурильо, поэтесса и спутница жизни никарагуанского президента Даниеля Ортеги, стоя у стен египетского святилища в плотном кольце невероятно красивых, устрашающего вида сандинистов в темных очках, пригласила молодого индийского писателя (участника британской кампании солидарности с Никарагуа) приехать своими глазами посмотреть на войну с контрас .
На одном заседании ему выпало поучаствовать в перепалке между признанными литературными тяжеловесами Солом Беллоу и Гюнтером Грассом. Он сидел рядом с немецким прозаиком, которым всегда искренне восхищался; когда Беллоу, тоже один из любимейших его авторов, свернул в выступлении к излюбленным своим рассуждениям о том, как рост материального благосостояния в стране губительно сказался на духовной жизни американцев, Грасс вышел к микрофону и возразил, что многие из них запросто проваливаются сквозь прорехи в американской мечте, и предложил показать Беллоу настоящую американскую нищету, например в Южном Бронксе. Беллоу, недовольный, резко ему возразил. Когда Грасс вернулся на место, его прямо-таки трясло от злости.
«Скажите ему что-нибудь», — велел создатель «Жестяного барабана» представителю одной шестой человечества. «Это вы мне?» — «Вам. Скажите что-нибудь».
Подойдя к микрофону, он спросил Беллоу, почему многие американские писатели уклоняются — или, выражаясь сильнее, «отрекаются» — от задачи писать об огромном политическом влиянии Соединенных Штатов в современном мире. Беллоу вскинул голову и изрек величественно: «У нас нет задач. У нас только вдохновение».
В 1986 году литературе действительно придавалось большое значение. На излете «холодной войны» было важно и интересно послушать восточноевропейских писателей — Данило Киша, Чеслава Милоша, Дьёрдя Конрада, Рышарда Капущинского, — противопоставлявших свои представления о будущем упершемуся в тупик советскому режиму. Омар Кабесас, тогдашний заместитель министра внутренних дел Никарагуа, автор воспоминаний о своем участии в партизанской войне, и палестинский поэт Махмуд Дарвиш делились мыслями, которые мало от кого в Америке услышишь; американские писатели вроде Роберта Стоуна и Курта Воннегута высказывали конкретную критику в адрес властей США, тогда как другие, близкие по складу к Беллоу и Апдайку, пытались заглянуть в глубь американской души. В конце концов конгресс запомнился не легкомысленной своей составляющей, а, напротив, тем, что на нем происходило серьезного. Да, в 1986 году писателям еще вполне естественно было претендовать на звание, по словам Шелли, «непризнанных законодателей мира», верить, будто литературное творчество способно выступать противовесом государственной власти, видеть в литературе благородную, наднациональную и надкультурную силу, которая может, как прекрасно выразился Беллоу, «еще немножко приоткрыть Вселенную». По прошествии двадцати лет в оболваненном и напуганном мире ремесленникам пера труднее будет заявлять столь высокие претензии. Труднее, но от этого, наверно, не менее важно.
Дома в Лондоне он вспомнил о приглашении в Никарагуа. Может, правда, пришло ему в голову, полезно было бы отвлечься от мелких литературных неудач и поехать туда, чтобы потом рассказать о людях, преодолевающих реальные трудности. В июле он улетел в Манагуа, а через несколько недель вернулся под столь глубоким впечатлением от увиденного, что не мог ни думать, ни говорить ни о чем другом и любого, кто попадал ему под руку, изводил рассказами про Никарагуа. Существовал единственный способ избавиться от этого навязчивого состояния — и вот в ком-то исступлении он засел за работу и через три недели выдал девяностостраничный текст. По объему вышло ни то ни се — для книги слишком коротко, для статьи слишком длинно. В конечном итоге в переписанном и дополненном виде из рукописи получилась небольшая книжка «Улыбка ягуара». Он снабдил готовую вещь посвящением Робин Дэвидсон (они тогда еще были скорее вместе, чем врозь) и дал ей прочесть. «Я так понимаю, романа мне уже не видать», — сказала она, увидев посвящение, после чего обоим расхотелось продолжать разговор.
Его литературный агент Дебора Роджерс интереса к новой книге не проявила, зато Сонни Мехта в срочном порядке выпустила «Улыбку ягуара» в британском «Пикадоре», а Элизабет Сифтон вскоре вслед за тем — в американском «Вайкинге». Ведущему ток-шоу на одной из радиостанций в Сан-Франциско, в котором он участвовал во время рекламного турне по Соединенным Штатам, не понравилось, что в книге осуждаются американская экономическая блокада Никарагуа и поддержка администрацией Рейгана противников правительства сандинистов. Ведущий спросил писателя: «Мистер Рушди, в какой мере вы являетесь коммунистической марионеткой?» Своим удивленным смехом — дело было в прямом эфире — он вывел хозяина студии из себя, как не вывел бы никакими словами, если бы они у него нашлись.
Но самые яркие впечатления за все время рекламного турне остались у него от общения с Бьянкой Джаггер, никарагуанкой по рождению, которая интервьюировала его для журнала «Интервью». При упоминании любого сколько-нибудь видного никарагуанского деятеля, не важно, левой или правой ориентации, Бьянка обыденным тоном, чуть рассеянно говорила: «Да-да, знаю такого, мы с ним какое-то время встречались». Ее реакция точно характеризовала Никарагуа, маленькую страну с очень малочисленной элитой. Представители враждующих сторон, члены этой самой элиты, вместе ходили в школу, были знакомы с семьями друг друга, а иногда даже, как в случае расколотого надвое клана Чаморро, происходили из одной семьи; и конечно все когда-то друг с другом встречались. Рассказ Бьянки обо всем этом (так и не написанный) был несравненно интереснее — и уж точно богаче интимными подробностями, — чем то, что написал он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: