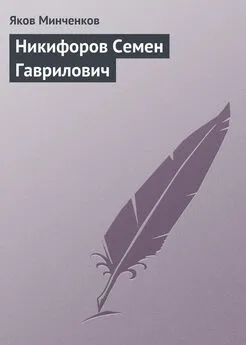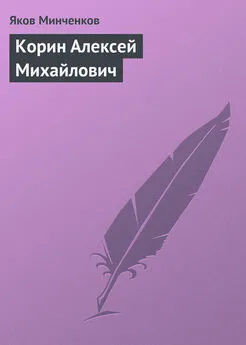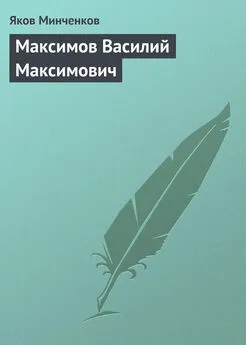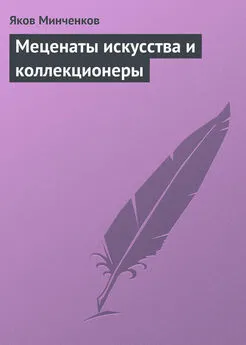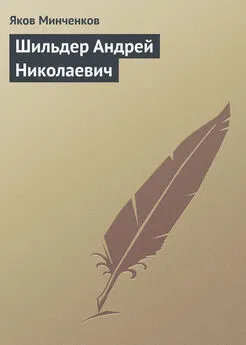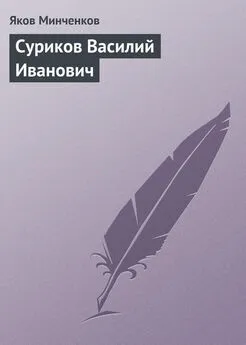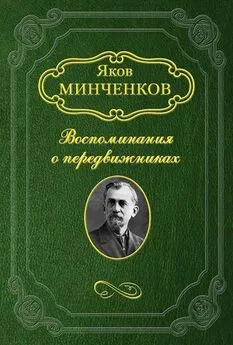Яков Минченков - Богданов Иван Петрович
- Название:Богданов Иван Петрович
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Минченков - Богданов Иван Петрович краткое содержание
«…Он был небольшого роста, крепкого телосложения, точно налит свинцом: лицо его выражало деловитость, озабоченность, какая бывает у врачей или бухгалтеров, но не имело ярко выраженных черт, было довольно прозаично и не останавливало на себе особого внимания. Из-под широких полей мягкой шляпы виднелись густые усы и борода клином.
На нем было пальто по сезону, а в руках толстая сучковатая палка. Походка была твердая, быстрая, решительная. Постукивая на ходу своей увесистой дубинкой, человек этот мало уделял внимания своей улице и тупику. Ему были известны все подробности этих мест, характер населения, его труд, привычки и разные недочеты, потому что он родился и вырос в таких же местах, в среде ремесленников…»
Богданов Иван Петрович - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Верно, говоришь? Ну, так давай выпьем еще чаю, а потом я доскажу остальное.
А колбаса важнецкая, что ни говори, и дешевле, чем в Охотном ряду.
Пришел сын Ивана Петровича, и ему сейчас же отец дал наставление, как надо содержать лампу:
– Вот видишь, – говорил Богданов, – проходил до сумерек, а лампу не оправил. Посмотри, как стекло мухи засидели, а от этого свет слабее и глаза портиться будут.
Сын, видимо, привык к нотациям отца и весело отзывался на все его слова. Иван Петрович хвалил и свою лампу.
– У меня, знаешь, свет лучше всякого там переменного и постоянного тока. Копоти от лампы никакой, а от электричества, что ни говори, глаза скоро болеть начинают.
После третьего стакана Иван Петрович скинул с себя пиджак и остался в одной синей рубахе с огромной заплатой на животе, нашитой, очевидно, собственноручно белыми суровыми нитками.
– Признаться, – сказал он, – я еще до твоего прихода три стакана опрокинул, и вот теперь в пот ударило. Сейчас в самый раз в рубахе. Я в ней постоянно работаю: свободно, и не боишься костюм в краску измазать.
Теперь я продолжаю дальше о себе. Больше того, что у меня есть, я сказать ничего не смогу, однако это не мешает мне думать о своем верхнем чердаке, наполнять его всем, что может пригодиться в искусстве. И знаешь, я уже вот о чем подумал: может, я действительно надоел всем своими малыми темами, своими подмастерьями и чернорабочими? Я вот попробовал было за драму взяться, знаешь мою картину «Пробуждение». Ну и что же? Картина моя никого не тронула, а у меня не хватило силишек на драму, которую мог бы передать лишь такой психолог, как Репин. Значит, не следует мне брать задач не по силам. Сознаю, что и в живописи, в технике хромаю, дошел даже до того, что думаю: а следует ли щеголять перед обществом убожеством своих персонажей и вместе с ними и своим убожеством? Что толку в том, что, скажем, войду я в общество вот в этой рубахе с такой заплатой, в компании своих немытых мастеровых-тупиковцев и скажу: «Обратите внимание – нет у нас ни красы, ни радости, вот каковы мы!» Не пахнет ли тут одним цинизмом, потому что дальше нам сказать действительно нечего? Вот видишь, я тоже о себе раздумываю.
Говоря это, Иван Петрович ходил крепкой поступью по комнате, и когда оборачивался ко мне со своей латкой на рубахе, то действительно казался малоприемлемым в «большом свете».
– Теперь вот еще что, – продолжал Богданов, – попробовал я перейти на живопись и на настроение в картине. Вот эскиз: как видишь – зима, вечереет, на улице костер. К нему собрались погреться два школьника, извозчик и городовой. Всем им хочется тепла, всех оно объединяет, очеловечивает, добрит. Мальчуганы переживают простое радостное детское чувство от вспышек костра, извозчик с шуткой разминает свои застывшие члены, а городовой забыл, что ему следовало бы прикрикнуть на извозчика за то, что тот оставил лошадь. Как видишь, я не могу и тут обойтись без тенденции, но ты про нее забудь, а смотри и видь только сумерки, огонь и силуэты фигур на голубоватом снегу с оранжевыми пятнами на нем от костра.
Это вот эскиз, а как взялся я за картину, вижу – опять ничего не выходит, потому что здесь мастерство нужно, песня в красках, а я, сам знаешь, простой рассказчик. Заела меня тупиковская проза.Как тут быть? Нельзя ли как-нибудь обновиться, натуру свою изменить? Меня звать Иван, а в сказке Иванушка-дурачок прыгнул в кипящий котел, а потом в холодный – и стал другим: молодцом хоть куда.
И вот я подумал: не махнуть ли мне в Париж, окунуться в этот европейский кипящий котел искусства, а потом вернуться в холодную Россию-матушку и на себя в зеркало посмотреть? Авось в зеркале раскрасавцем Иваном-царевичем объявишься. – Богданов расхохотался. – У меня по балансу выходит, что капитала хватит в Париж съездить и на Москву потом еще немного останется. Так, значит, и по-твоему – махнуть надо?
Уже поздней ночью Иван Петрович провожал меня до большой улицы.
– Ты не бойся ходить по этим улицам во всякое время, – говорил он по дороге, – здесь грабителей не бывает, потому что грабить некого – все беднота; за двадцать лет со мной один только случай произошел такого рода. Иду я с товарищеского собрания около полуночи по этим местам, посмотрел у фонаря на часы и заметил, что за мной два паренька следят. Немного отошел – один из них меня за руку схватил: давай, говорит, часы!
Я, знаешь, чуточку толкнул его в грудь, он носом в снег, другой сам; отскочил. Посмотрел я на них: мелюзга, в одних пиджачках стоят, дрожат на холоде.
Показал им дубинку. «Эх, – говорю, – суетесь вы, ребята, без разбору на кого попало, а если б я вот эту штучку в оборот еще пустил, то от вас бы только мокренько стало». – «А ты кто будешь?» – спрашивает один. – «Художник», – говорю. – «Ну, так бы и сказал раньше, – говорит несчастный грабитель, – толкаться незачем было! Извини, товарищ».
И, знаешь, подошел и протянул мне руку. Как тебе понравится? От грабителя художник признание получил, а вот барин из тебя старается холуя сделать…
Ну а теперь – прощай, большая улица подошла, городовые торчат, попадается и извозчик. А насчет Парижа – дело решенное: махнуть, надо!
Иван Петрович сдержал слово: махнул в Париж, окунулся в этот котел европейский, насмотрелся там разных чудес и, возвратившись обратно, говорил мне:
– А меня – как зачала мать вот в этих тупиках, так, видно, здесь я и помирать буду. Ничего парижское ко мне не пристало, по зеркалу вижу, что царевичем не стал. Скажи на милость: у других красоту понимаю, а у себя не наведу. И все же из-за этого искусства не оставлю, потому что без него у меня жизни не будет. Я видел большое и прекрасное, но мое маленькое и бледное, как ни странно, осталось дорогим для меня. Я как бы насмотрелся на прекрасных, выхоленных и разодетых детей и потом увидел своего веснушчатого, в рваных ботинках сынишку, и он стал мне еще дороже.
Я украдкой любуюсь своей маленькой удачей в искусстве, любуюсь тем, чего вы даже не подмечаете у меня. И в этом мое счастье.
Иногда свою работу показываю тупиковцам, и они над ней смеются. Что бы я ни показал, они надо всем смеются. Однажды написал я тяжелую сцену из их быта, и на нее услышал возглас: «Ага, прижучило!» – и смех. К горю они привыкли, а смеются от удовольствия, видя изображение, похожее на действительность. Они радостно любуются самим искусством, как удачным фокусом. И мне кажется, что они-то и есть самые верные ценители искусства, а не те, которые ищут, по какому поводу оно явилось. Этим я как бы отказываюсь от тенденции, вот ты и разгадай мою загадку.
Глухота у Богданова усиливалась, из-за нее он редко появлялся в обществе. При разговоре с ним приходилось почти кричать, и он, сознавая, как это тягостно для всех, старался избегать встреч и длинных бесед даже с близкими людьми. Все же, хоть изредка, заходил ко мне и делился своими переживаниями, в большинстве тяжелыми, так как началась империалистическая война и атмосфера была насыщена одними бедствиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: