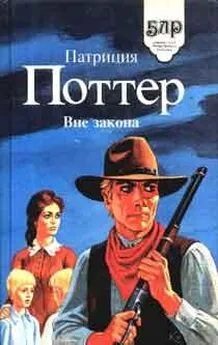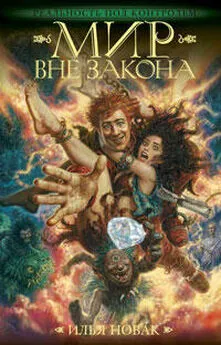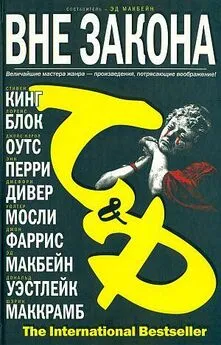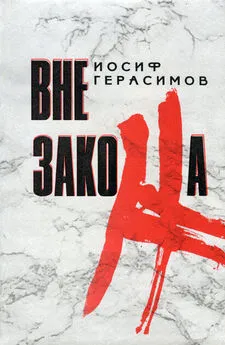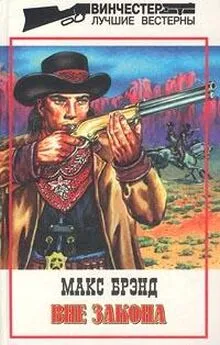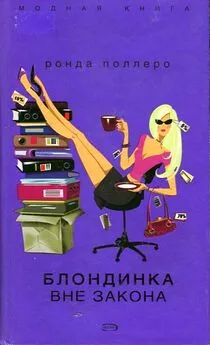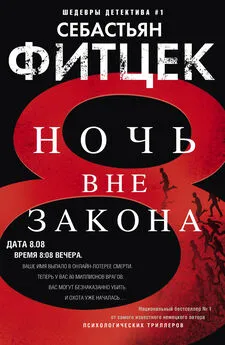Эрнст Саломон - Вне закона
- Название:Вне закона
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1930
- Город:Berlin
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Саломон - Вне закона краткое содержание
О книге: Эрнст фон Саломон в своем вышедшем в 1930 году автобиографическом романе описывает опыт своей молодости, начиная с его членства в добровольческом корпусе в 1918 году. Сначала он боролся на стороне проправительственных войск в Берлине и Веймаре. Когда польские и межсоюзнические стремления аннексировали части Силезии вопреки результату плебисцита, Прибалтика и Верхняя Силезия стали районом боевых действий.
За свое соучастие в совершенных «Организацией Консул» (О.К.) убийствах по приговору тайного судилища (т. н. «суда Феме»), в том числе в убийстве министра иностранных дел Вальтера Ратенау, Саломон был осужден на многолетнее тюремное заключение.
Особенностью этого романа является безжалостное раскрытие образов мыслей исключительных людей в исключительные времена — и это на литературном уровне. Не менее интересна и личность самого автора ввиду того, что в будущем он отмежевался от последовавшего за революционными годами национал-социализма, в отличие от некоторых своих соратников.
Эта автобиография является «в то же время чем-то вроде автобиографии всего времени» (Пауль Фехтер), и она, как писал в обсуждении книги Эрнст Юнгер, заслуживает прочтения хотя бы потому, что она «охватывала судьбу самого ценного слоя той молодежи, который вырос в Германии во время войны».
«Вне закона» на полном основании считается одним из лучших романом для понимания смутного времени, последовавшего после Первой мировой войны, и мотивации основных приверженцев «крайне правых».
Вне закона - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Балтийцы («остзейские» немцы — прим. перев.), которые в большой массе стояли лагерем там на дороге за выдающимся вперед углом леса и ждали сигнала к наступлению, не спрашивали о смысле своей борьбы. Для них борьба, ради которой они собрались, была священной, была единственным настоятельным требованием момента. Они ожесточенно стремились взять Ригу; так как она была их городом, и там в цитадели были балтийские заложники, которым угрожала та же судьба, что и заложникам Митау (Митавы). Лейтенант Кай взял меня с собой к балтийским семьям, которые могли сообщить нам о времени большевистского правления в Митау. И там не было ни одной семьи, как минимум один член которой не был бы угнан, замучен или казнен, и многие семьи были убиты вместе с их прислугой, и во многих семьях остались живы только женщины, и из женщин — только пожилые. И было так, что достаточно было лишь заговорить на улице по-немецки, чтобы тебя избили, и само слово «немецкий» стало считаться ужасным ругательством, а немец — самым ужасным порождением этого мира. Но балтийские девушки, вырванные из их домов, в своей строгой, ухоженной терпкости, считались вожделенной добычей, и у большевистских извергов было желание осквернить их и сломать их благородную волю в дикой страсти, пока они, пройдя пытки всеми ордами, не лежали голые и разорванные в уличной грязи или во дворе тюрьмы, и между тем, над их трупами расстреливали балтийских мужчин. Когда Балтийский ландесвер, ополчение, без приказа, только подстегиваемое безумным криком своей крови, решилось нанести последний удар по Митау, через Тюкум штурмом наступало на город, то заложников выгнали во дворы их тюрем, и в тесно столпившуюся массу их тел полетели связки гранат, из дул быстро наводившихся винтовок летела пуля за пулей, так что сбитые в кучу тела падали все выше и выше, и, в конце концов, от них не осталось ничего, кроме сплошной кровавой, бесформенной каши. Но других заложников красные всадники привязали к своим лошадям и, подталкивая ударами сапог, потащили из города в Ригу. На дороге вплоть до Эккау Балтийское ополчение могло насчитать еще много трупов своих соплеменников. Могила герцогов Курляндских была вскрыта, мумии, с немецкими стальными шлемами на головах, стояли прямо на стенах, изрешеченные бессмысленными выстрелами. Это были полки латышских красных стрелков, которые так мстили в Митау своим прежним господам.
Но то, что бросило нас из Веймара, спокойного центра крутящейся Германии, в эту землю, в которой мы сражались уже шесть жарких недель, как нам представлялось, только слабо объяснялось теми трезвыми обещаниями, которые были предложены нам вместе с барабанной дробью вербовщиков. Когда в дни бунта фронт немецкой восьмой армии на прибалтийских землях рухнул и, без какой-либо дисциплины, мародерствуя, разбегаясь, по всем дорогам потянулся на родину, Красная армия, в которой странным образом элементы новой национальной и социальной гордости смешались с азиатским произволом, хвастливо и в могущественном опьянении дикой веры в свое превосходство вторглась в брошенную страну. Рига пала, и Митау, и вплоть до Виндау прорывались оборванные, уверенные в своей победе партизанские отряды. Тогда балтийцы собрались и оказали первое сопротивление. И к ним присоединились слабые немецкие группы пограничной охраны. Латвийское правительство Улманиса, сбежавшее из Риги в Либау, пообещало, однако, немецким добровольцам землю для поселения, восемьдесят моргенов земли и большие кредиты и повышенное денежное довольствие, если они смогут отвоевать страну назад. У немецких войск был приказ защищать Восточную Пруссию и вместе с этой провинцией немецкие восточные границы. Немецкий командующий, генерал граф Рюдигер фон дер Гольц, полагал, что приказ может быть выполнен только путем наступления. И поход начался в снегу и льду, когда уже первые весенние бури ревели по лесам, с дикими и дерзкими конными рейдами, с короткими, ликующими ударами, с внезапным нападением и форсированным маршем. Митау была освобождена. В Эккау образовывался новый фронт. Рига, балтийский город, к которому все так безумно стремилась, лежала за темными лесами. Из нее до немецкого фронта доходило отчаянное послание, вырвавшееся с тяжелым кашлем из измученных легких балтийских беглецов, из перехваченной советской радиограммы, насильственно выбитое из пленных красногвардейцев. Но немецкое правительство, боясь угрозы Антанты, запрещало немецким войскам освобождать город.
Слово «продвижение» для нас, прибывших в Прибалтику, обладало таинственным, приятно опасным смыслом. От наступления мы ожидали последнего, освобождающего подъема сил, мы с нетерпением ожидали утвердиться в сознании того, что мы могли справиться с любой судьбой, мы надеялись, что познаем в себе настоящие ценности мира. Мы маршировали, питаемые совсем другими убеждениями, чем те, которые имели силу на родине. Мы верили в мгновения, в которых сжимается многообразие жизни, счастье решения.
«Продвижение»: для нас это означало не марш к какой-то военной цели, чтобы захватить некую точку на географической карте, линию на территории, скорее это означало смысл жесткой общности, это означало порождение нового напряжения, которое толкает воина на более высокий уровень, это означало расторжение всех связей с гибнущим, разрушенным миром, с которым у настоящего воина больше не могло быть никакой общности.
Выступление немецких батальонов в Прибалтике было подобно выступлению нового племени. Каждая рота несла с собой свою собственную эмблему и вела свой собственный бой. Полевой эмблемой роты Гамбург был флаг этого немецкого ганзейского города. Но над флагом еще развевался черный вымпел, и когда я спросил одного из гамбуржцев о том, являлось ли это знаком скорби — и я сам был смущен этим вопросом — то тот тут же просвистел первые такты пиратской песни. Нет, это не было никакой скорбью, черный вымпел развевался уже у Клауса Штёртебекера на мачте «Пестрой коровы», и когда-то он дул над военными когами витальеров. Таким образом, у флага гамбуржцев в Прибалтике был свой особенный смысл, и он порхал над каждой крестьянской телегой роты, а также на полевой кухне, во время некоторых боев — это было возможно в Прибалтике, там ведь было возможно все — его выносили на передний край, и он светился кроваво-красным светом с его тонкими белыми башнями и тусклой полоской дыма над ними. Потому вполне могло случаться так — и определенно это было добрым намерением гамбуржцев — что большевики не решатся стрелять, сомневаясь, не выдвинулись ли там красные войска, а также могло случаться, что балтийцы стреляли в гамбуржцев — ведь балтийцы не могли увидеть красный цвет, без того, чтобы не начать сразу стрелять — тогда гамбуржцам нужно было только закричать «Хуммель, хуммель!» (буквально: «Шмель, шмель!», популярное в Гамбурге шуточное обращение, связанное с легендой о городском водоносе по прозвищу Хуммель («шмель») — прим. перев.), и стрельба прекращалась; так как гамбуржцы уже были известны по всей Курляндии и их боевой призыв тоже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: