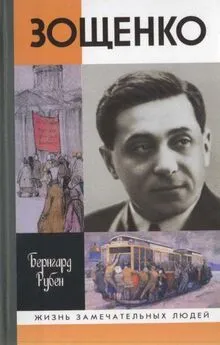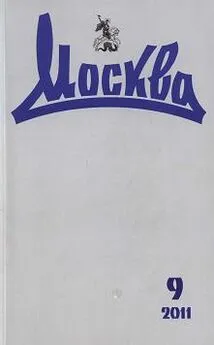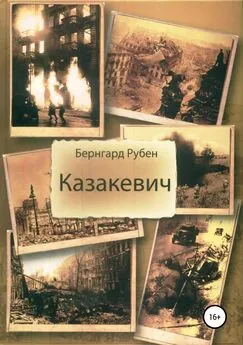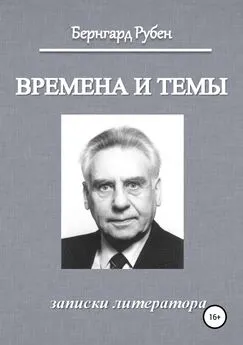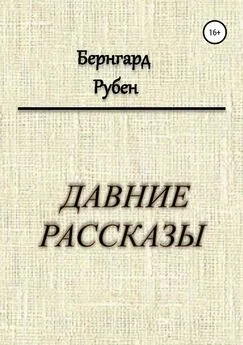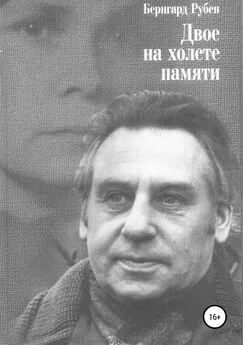Бернгард Рубен - Зощенко
- Название:Зощенко
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02856-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бернгард Рубен - Зощенко краткое содержание
Имя одного из немногих оригинальных и самобытных писателей советской эпохи Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958) — создателя знаменитых зощенковских рассказов, а также «Сентиментальных повестей», «Возвращенной молодости», «Перед восходом солнца» и других ярких сатирических произведений является неотъемлемой частью русской литературы XX столетия.
Михаила Зощенко долгое время считали популярным, общедоступным юмористом, более того — «смехачом». Но те, кто охватывал советскую реальность во всей ее сути, видели в нем глубокого сатирика и сравнивали с Гоголем. Об этом свидетельствует посмертное писательское воскресение Зощенко в постсоветское время.
В книге Бернгарда Рубена с привлечением обширного документального материала подробно прослеживается сложная творческая и человеческая судьба писателя, произведения и сама жизнь которого отразили современную ему эпоху, когда в России произошел разрыв времен, разлом истории.
Зощенко - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но именно этот отказ от себя приводил в лучших произведениях Зощенко к наиболее полному выражению таланта и позиции самого автора — в таком растворении как раз и высвечивался кристалл его души.
Следуя за жизнью, за действительностью в выборе героев и тематики своих произведений, отойдя от своего дворянского, офицерского прошлого и от литературного продолжения этого прошлого в собственных сочинениях, Зощенко целенаправленно пошел по пути народного писателя. В то же время, наблюдая за новоявленной в общественной жизни массой людей, он не стал идеализировать этот «народ», а воздал ему должное своей сатирой. Однако он не мог встать в позу автора-ментора, изображающего и осуждающего людей со стороны, не мог оказаться в барской позиции над народом, каким бы ни представал тот перед его глазами. Так проявился истинный демократизм Зощенко. И так возникла глубинная предпосылка, потребность изобрести собственную, небывалую еще в литературе форму сатиры. Талант и человеческая доброта Зощенко, его демократизм блестяще выразились в этом литературном открытии, где он как бы отождествил себя, автора, с этими осмеиваемыми им людьми. И вот теперь-то, не отделяя себя от этого народа, он и получил самое полное право осмеивать его, подвергать своей беспощадной сатире. Здесь-то и обнаруживается настоящая, высшая авторская позиция. И этот подлинный автор, так старательно себя прячущий за обобщенным, типизированным сказчиком, искусно проецирует всю уродливую действительность на незримо, но незыблемо присутствующую у него систему истинных человеческих координат, чтобы этим своим методом сатирического отрицания постараться достичь положительного для людских душ результата.
Подобный подход к обличению действительности имеет глубокие корни. Вот выдержка из давнишней блестящей статьи известного кинорежиссера Г. Козинцева «Народное искусство Чарли Чаплина»:
«…только один персонаж „Короля Лира“ видит сквозь мнимое спокойствие государства зреющую чуму.
Этот персонаж — шут.
То, что не видят короли, полководцы, государственные деятели, видит шут. И он не только видит, он говорит о том, что видит. Он единственный человек, который может говорить правду. Он имеет право говорить, потому что он говорит правду шуткой. На нем костюм шута».
Надев этот «костюм», эту маску комического персонажа на себя, Зощенко смог сказать о той «чуме», которую глубоко видел и чувствовал вокруг. Не его вина, что он не был услышан и понят. Глаза общества застилал тогда кумачовый цвет знамен, флагов, лозунгов, а уши забивала бравурная медь оркестров…
Воистину: нет пророка в своем отечестве. Но широко распространившееся поверхностное понимание его творчества дало возможность на протяжении двух десятилетий открытой, гласной жизни и зощенковским рассказам, и внешне благополучного бытия ему самому.
С этой же точки зрения — разлома и переворота России — взглянем и на тему интеллигенции в произведениях Зощенко 20-х годов.
Сказав о себе как о писателе, пародирующем и временно замещающем пролетарского писателя, Зощенко в своей статье продолжал:
«В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (Карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндранат Тагора, и сантиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план…»
Здесь, понятно, имелись в виду «Сентиментальные повести», к которым затем примкнула и сравнительно крупная повесть «Мишель Синягин. (Воспоминания о М. П. Синягине)», написанная в 1930 году. И как раз в этой повести «автор», не названный по фамилии, но опять-таки пародируемый, теперь уже интеллигентский писатель, пространно рассуждает об интеллигенции:
«В те годы было еще порядочное количество людей высокообразованных и интеллигентных, с тонкой душевной организацией и нежной любовью к красоте и к разным изобразительным искусствам.
Надо прямо сказать, что в нашей стране всегда была исключительная интеллигентская прослойка, к которой охотно прислушивалась вся Европа и даже весь мир.
И верно, это были очень тонкие ценители искусства и балета и авторы многих замечательных произведений и вдохновители многих отличных дел и великих учений.
Это не были спецы с точки зрения нашего понимания.
Это были просто интеллигентные, возвышенные люди. Многие из них имели нежные души. А некоторые просто даже плакали при виде лишнего цветка на клумбе или прыгающего на навозной куче воробушка.
Дело прошлое, но, конечно, надо сказать, что в этом была даже некоторая какая-то такая ненормальность. И такой пышный расцвет безусловно был за счет чего-то такого другого.
Автор не владеет искусством диалектики и незнаком с разными научными теориями и течениями, так что не берется в этом смысле отыскивать причины и следствия. Но, грубо рассуждая, можно, конечно, кое до чего докопаться.
Если, предположим, в одной семье три сына. И если, предположим, одного сына обучать, кормить бутербродами с маслом, давать какао, мыть ежедневно в ванне и бриолином голову причесывать, а другим братьям давать пустяки и урезывать их во всех ихних потребностях, то первый сын очень свободно может далеко шагнуть и в своем образовании, и в своих душевных качествах. Он и стишки начнет загибать, и перед воробушками умиляться, и говорить о разных возвышенных предметах. <���…>
Всеми этими разговорами автор, конечно, нисколько не хочет унизить бывшую интеллигентскую прослойку, о которой шла речь. Нет, тут просто выяснить хочется, как и чего, и на чьей совести камень лежит.
А прослойка, надо сознаться, была просто хороша, ничего против не скажешь».
Отметим сперва мягкий, при всей ироничности, тон этого рассуждения, никак не схожий с советской стилистикой классовой борьбы, ненависти, отрицания. Рассуждение ведется лишь в рамках категории совести и признания исторической данности прошлого. Но объект зощенковской сатиры уже иной: теперь это дореволюционная интеллигенция и ее мировоззрение. (И поскольку Зощенко говорит здесь вообще о «бывшей интеллигентской прослойке» в России, которая, по его словам, как обласканный сын в семье, получив преимущественную возможность образования и возвышенного художественного воспитания, оторвалась от своих «братьев» по обществу, следует уточнить, что под предмет его рассуждения подпадает лишь одна, пусть и немалая, часть интеллигенции. А была и другая часть, которую никак нельзя обвинить в общественном эгоизме. Напротив. Именно эти интеллигенты «шли в народ», «сеяли разумное, доброе, вечное», они строили школы и больницы, учили и лечили крестьян, сами не чуждались физического труда, «опрощались», они спасали в годы недорода голодающих, открывая бесплатные столовые, боролись с эпидемиями, жили по законам добра, труда, милосердия, любви к ближнему. И именно это, единственное в своем роде явление, возникшее в России во второй половине XIX века, получило известное название «русская интеллигенция», связываемое прежде всего с нравственными критериями человеческого поведения.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: