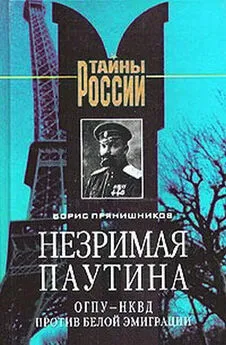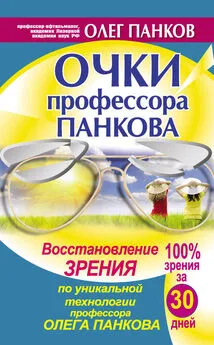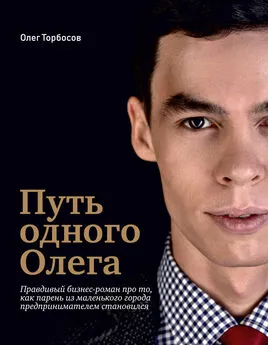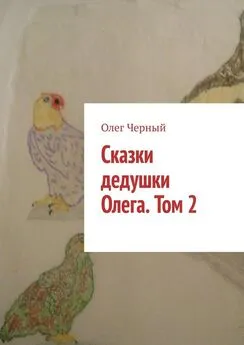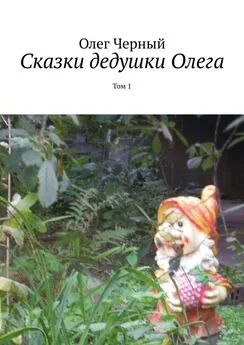Олег Писаржевский - Прянишников
- Название:Прянишников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1963
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Писаржевский - Прянишников краткое содержание
Дмитрий Николаевич Прянишников — русский агрохимик, биохимик и физиолог растений. Академик Академии наук СССР, ВАСХНИЛ и Французской академии наук, Герой Социалистического труда, основатель и директор Научного института по удобрениям (с 1948 года ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова), член Госплана СССР и Комитета по химизации народного хозяйства.
Прянишников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Под влиянием Тимирязева, на которого Прянишников прямо ссылается в своих воспоминаниях, он сохранил веру в науку, как в могучую благодетельную силу преобразования природы на благо людей, и эта убежденность сыграла большую роль во всех дальнейших перипетиях его большой и сложной жизни.
И все же, сохранив верность высокой теоретической науке, Прянишников покинул университет и направил свои стопы туда, где переход от выводов этой науки к жгучим нуждам человеческой практики казался ему наиболее непосредственным, наиболее естественным, наиболее прямым.
Прянишников отлично отдавал себе отчет в том, что, углубившись в химию, при хорошем руководстве он мог бы к тому возрасту, в каком большинство его товарищей только оканчивало университет — к двадцати трем — двадцати четырем годам, — «порядочно вработаться в органическую химию, сдать магистерский экзамен и начать читать приват-доцентский курс». Но, пренебрегая соображениями материальной выгоды и карьеры, которые были ему органически чужды, Прянишников решительно отвернулся от благополучного университетского профессорского существования: для того чтобы быстрее окунуться в житейское море, он поступил простым студентом в Петровскую сельскохозяйственную академию.
Он с радостью убедился, что влияние Тимирязева на студенчество Петровской академии, где Климент Аркадьевич возглавлял кафедру ботаники и физиологии растений, было еще более ощутимо, чем в университете. «Именно здесь чувствовалось, — писал в своих воспоминаниях Прянишников, — что Тимирязев не просто ботаник. Тимирязеву были близки интересы земледелия».
Но была еще одна черта, делавшая Тимирязева особенно близким студентам Петровской академии восьмидесятых годов. Прянишников характеризует ее в выражениях, которые отражают его собственные общественные настроения: «Отводя в своих выступлениях много внимания вопросам научного земледелия, К. А. всегда думал о земледельце, болел его нуждами, и потому среди чисто физиологических рассуждений о функциях листьев и корней у него вдруг пробивалась мысль о положении крестьянства и о роли интеллигенции, и кончал он лекцию о питании растений напоминанием о том, «кто кормит Россию и сам недоедает»,
Кто бредет по житейской дороге
В беспросветной, глубокой ночи…
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, науки,
Предаваться страстям и мечтам…
Прянишникову в высокой степени импонировало то, что его учитель «еще студентом с энтузиазмом откликался на текущие события политической жизни Западной Европы статьями в «Отечественных записках» — в этом на редкость монолитном журнале, который редактировали Некрасов и Салтыков-Щедрин, в котором писал Глеб Успенский, а позднее такие авторы, как Гаршин и Надсон».
Для демократической, прогрессивной части студенчества, к которой принадлежал Прянишников, этот журнал, закрытый в 1884 году, был настольной книгой. «Мы, можно сказать, выросли на «Отечественных записках», — вспоминал Дмитрий Николаевич.
Таким образом, в юношеском сознании «бродили те же дрожжи» — их умонастроению были близки взгляды наиболее любимого и популярного их профессора.
Говоря о будущем своей науки, Тимирязев также ссылался на опыт медицины. После долгих бесплодных попыток разрешить свою задачу путем умозрения или грубого эмпиризма медицина пришла к заключению, что ей нужно начать издалека, ей нужно изучить законы животной жизни, ей нужно искать опоры в науке, и вот в медицинских школах возникла и развилась физиология животных. Но рядом с потребностью быть здоровым — потребностью, которую стремится удовлетворить медицина, — у человека есть и другие. И прежде всего ему нужно быть сытым, одетым, иметь кров и средства передвижения. Большую часть этих удобств он получает прямо или косвенно от растений, которые возделывает или охраняет. Только изучив законы жизни, только подметив или выпытав у самого растения, какими путями оно достигло своих целей, мы в состоянии направить его деятельность к своей выгоде, вынудив его давать возможно более продуктов возможно лучшего качества. Тимирязев считал, что в основу земледелия должна лечь физиология растений и агрономическая химия.
— Земледелие, так же как и медицина, — говорил он, — долго блуждало в одинаково бесплодных областях эмпиризма и умозрений, пока не пришло к этому заключению. Но это случилось гораздо позднее, чем с медициной: у нас это сознание, можно сказать, едва только начинает проникать в массу общества. Мы уже давно не сомневаемся, что знахари и коновалы не лучшие знатоки законов животной жизни, но мы только начинаем подозревать, что безграмотные старосты и управители из отставных лакеев не лучшие знатоки законов растительной жизни. Когда мы заболеем, то, конечно, прибегаем к помощи врача, который лечит нас согласно указаниям своей науки, но мы еще не прочь поглумиться над соседом, который сеет хлеб «по всем правилам науки».
Решающее влияние Тимирязева сказалось не только в выборе Прянишниковым ученой специальности, но и в формировании его научного мировоззрения.
Один из учеников К. А. Тимирязева, впоследствии известный ботаник Е. Ф. Вотчал, очень хорошо выразил главное. «Было очень важно, — вспоминал он, — что все мы приобретали представление о науке не как о чем-то законченном, застывшем в статике достижений, а как о том, что познано далеко еще не полно, в чем очень много едва затронутого, а часто и совсем не затронутого научным анализом. Мы могли ясно понять всю необходимость дальнейшей разработки ряда вопросов и получали некоторое представление о том, как это надо сделать. Мы видели, что вся суть здесь не только в точном методе и в четкой постановке вопроса исследования, но еще более в правильной методологии. Мы привыкали искать скрытые соображения метафизического характера и не успокаиваться на словах». Говоря, в частности, о цикле лекций Тимирязева, которые составили потом книгу «Жизнь растения», академик Е. Ф. Вотчал отмечал, как резко выделялась она на фоне «преобладающей догматики учебников». «Мы убеждались, что основное здесь — точный метод, определенная постановка вопроса и правильная экспериментальная его разработка. Для нас становилось ясным, что физиолог должен всему этому учиться у родоначальников видных экспериментальных наук — физиков и химиков. Исследуя жизненные явления, физиолог должен ставить вопросы и работать так же четко и строго, с теми же точными методами, как работают физики и химики».
«В то же время из жизни растений, — добавляет ученый, — мы вынесли ясное представление и о бесконечной сложности и своеобразии жизненных явлений». Отсюда он делает единственно правильный вывод, а именно: «о невозможности заменять их строгое экспериментальное изучение кажущимися истолкованиями по аналогии с явлениями в животном организме или в физико-химической модели».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: