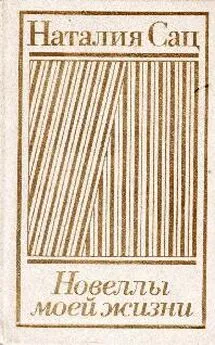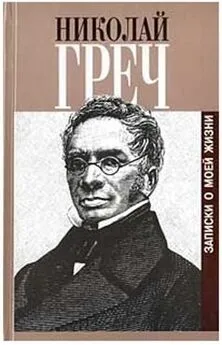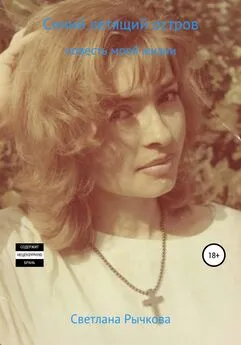Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 1
- Название:Повести моей жизни. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 1 краткое содержание
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Повести моей жизни. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бурный поток,
Чаща лесов,
Вот мой приют! —
Голые скалы —
звенел без конца у меня в ушах.
Мне представлялась партизанская война, которая, вероятно, начнется в это лето, и я видел моих новых друзей рассеянными по лесам и не имеющими другого приюта, кроме обрывистых берегов потоков и голых скал. Нет, хуже! Я представлял их в тюрьмах, может быть в пытках, в сырых рудниках... «А я буду в это время спать в своей мягкой постели!» — думал я.
Лично я вовсе не чувствовал какой-либо боязни перед ссылкой и рудниками. Совершенно напротив: мысль об опасности всегда имела для меня что-то жутко привлекательное. Ночевки в «чаще лесов» под деревьями нашего парка я постоянно устраивал себе каждое лето, тайно вылезая через окна из своей комнаты после того, как мать уходила, попрощавшись со мной, и весь дом погружался в сон. Захватив с собою на всякий случай заряженное ружье и кинжал и завернувшись в плащ, я ложился где-нибудь в трущобе парка, и мне было так хорошо там спать под светом звезд на росистой мягкой траве!
А потом, когда меня будила свежесть утра, еще лучше было чувствовать вокруг себя всеобщее пробуждение жизни природы, щебетание птиц и звуки насекомых в окружающей меня розовой дымке рассвета.
О тюрьмах я думал тоже не раз, и они меня нисколько не пугали. Я представлял себя в мечтах брошенным в мрачное сырое подземелье, на голый каменный пол, с обязательными крысами и мокрицами, ползающими по стенам, или в высокой башне, куда сквозь щель вверху пробивается лишь одинокий луч света, представлял себя умирающим в пытках, никого не выдав, и это приводило меня только в умиление. Я сам себя хоронил заживо, как жертву за свободу...
«И никто об этом не узнает, — думал я. — Как все это хорошо! Это даже лучше, чем если бы все узнали, потому что тогда я не мог бы быть уверенным, что приношу себя в жертву бескорыстно».
По временам, наоборот, я думал, что выберусь из крепости и внезапно предстану перед своими друзьями, которые считали меня погибшим. Как они будут удивлены и обрадованы! Особенно когда я покажу им знаки, оставленные кандалами на моих руках и ногах, и, еще лучше, два-три оборванных ногтя во время пытки, и расскажу им о своем удивительном освобождении...
Во всем, что я говорю теперь, я не изменяю, несмотря на давность, ни единой йоты.
Эти мысли и мечты, навеянные, может быть, массой прочитанных мной романов, составляли основу моей внутренней интимной жизни. Я здесь не только ничего не преувеличиваю, но, наоборот, много не договариваю, потому что перечислять все, о чем я тогда мечтал в таком роде, и все, что мне приходило в голову, значило бы исписать целые томы в духе Фенимора Купера, а это здесь было бы неуместно.
Всевозможные мысли и чувства такого рода сразу нахлынули на меня и скучились в моей голове в те критические три или четыре дня моей жизни. Наконец совершился перелом. Несколько дней я ни разу не ходил к моим новым друзьям-революционерам и вдруг почувствовал, что больше я не в состоянии их не видеть. Но видеть их — значило идти с ними, другого выхода я не мог себе представить. Дождавшись утра, я оделся, как обыкновенно, сел, как обыкновенно, пить чай с Печковским, которого я уже познакомил с Алексеевой, и сказал ему, что в последние дни я много передумал и решил идти в народ со своими новыми товарищами.
— Я это знал, — ответил он, и мне показалось, что на его глазах навернулись слезы.
Еще ночью я решил раздать товарищам по гимназии мои коллекции и имущество, чтобы ничто меня более не удерживало по эту сторону жизни, а книги отдать для основания тайной библиотеки.
Напившись грустно чаю, мы встали и начали упаковывать мое имущество, распределяя, что кому отдать. Я раздал все, даже белье и платье, оставив себе только кошелек с деньгами, часы и револьвер, потому что для чего мне было теперь остальное?... Родным я решил ничего не писать.
«Ведь столько людей тонут, проваливаются в землю и вообще исчезают без вести! Пусть думают, что погиб и я».
Затем с другим товарищем, Мокрицким, сыном одного из московских художников, я пошел в какие-то ряды подобрать народный костюм и прежде всего начал выбирать самый грубый.
— Тебе нельзя одеваться в подобное платье, — сказал Мокрицкий. — Возьми самый лучший из рабочих костюмов, а то будет слишком резок контраст с твоей физиономией.
Я согласился с этим, и мы выбрали суконный жилет с двумя рядами бубенчиков вместо пуговиц, весело побрякивавших при каждом моем шаге, несколько ситцевых рубах и штанов, черную чуйку, фуражку и смазные сапоги необыкновенно франтоватого вида: верхняя часть их представляла лакированные отвороты, на которых были вышиты круги и другие узоры синими и красными нитками.
Затем, заметив, что мои волосы острижены не по-народному, мы пошли к Мокрицкому. Усадив меня под картиной какой-то нимфы, работы своего отца, он постриг мои волосы в скобку, как у рабочих, а шею под скобкой начисто выбрил отцовской бритвой. Потом намазал мне волосы постным маслом и расчесал их прямым пробором на обе стороны. В этом костюме и виде я тотчас же явился в нашу сапожную мастерскую и, ранее чем окружающие успели опомниться, заявил им прямо:
— И я решил тоже идти в народ!
Алексеева, сидевшая посреди остальных на деревянном обрубке и рассмеявшаяся сначала при виде моего переодевания, взглянула на меня при этих словах как-то особенно, и мне показалось, что на лице ее выразился испуг... Но, тотчас же вспомнив про свои убеждения, она встала и, протягивая мне обе руки, сказала:
— Как это хорошо с вашей стороны!
Остальные все тоже повскакали со своих мест. Санька Лукашевич первый, осмотрев меня со всех сторон с критическим видом знатока, вдруг рассмеялся и сказал:
— Черт знает что такое! Взглянешь сзади — настоящий рабочий, а взглянешь спереди — переодетая мужичком актриса.
Я тоже смеялся и повертывался во все стороны, давая рассмотреть свой костюм во всех подробностях. Затем я сейчас же выбрал себе колодку и кожу и под руководством нашего мастера с величайшим усердием принялся вставлять щетину в дратву и шить свой первый крестьянский башмак.
О только что розданном имуществе и обо всем, пережитом мною в последние дни, я никому ничего не сказал.
4. Первое путешествие в народ
Прошло три недели. Апрель кончился. Работы в мастерской продолжались ежедневно, пока не начинало смеркаться. Они сменялись время от времени разговорами, пением «Бурного потока» и множества других песен, которые знала Алексеева, учившаяся после института еще в консерватории, и звонкий ее голос будил эхо во всех углах. По временам все пели хором:
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Смело ж, братья, ветром полный
Парус мой направил я,
Рассечет седые волны
Быстрокрылая ладья!
Облака бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней,
Будет буря! Мы поспорим
И поборемся мы с ней!
Интервал:
Закладка: