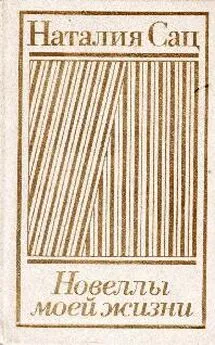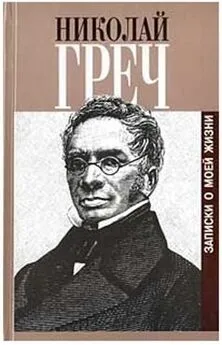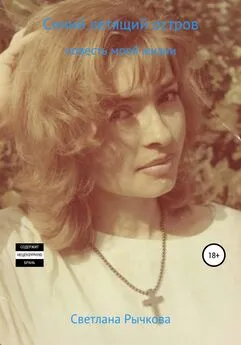Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 1
- Название:Повести моей жизни. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 1 краткое содержание
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин
Повести моей жизни. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наконец Александр Мокрицкий увел меня в свою комнату и сказал, краснея и запинаясь:
— Мы должны попросить прощенья. Без тебя было в Москве много обысков, и около нашего дома мы заметили подозрительных людей. Мы думали, что и у нас сделают обыск, а ты перед уходом оставил нам на сохранение твою шкатулку с рукописями.
— Но неужели вы подумали, — быстро проговорил я, спеша оправдаться от несправедливого подозрения в неосторожном отношении к их судьбе, — что я вас тогда обманул? Честное слово, там только одни мои научные тетради, как я тебе нарочно показывал, отдавая шкатулку, чтобы не боялись. Давай, я снова покажу тебе все.
Он еще более смутился и наконец сказал, совершенно покраснев:
— Мы испугались, взломали замок и сожгли в печке, не читая, все твои тетради. Мы не сомневались в том, что там только научное, и видели сами это, но ты знаешь, тебя теперь всюду разыскивают жандармы. Мы боялись, что узнают твой почерк. Ты ведь сам знаешь, что тогда арестовали бы и нас за недонесение о тебе, хотя бы рукописи и были научные.
Это меня совсем ошеломило. Я тотчас догадался, что уничтожила тетради его мать из опасения за детей, но он не хотел мне указать на нее. Это была добрая женщина, потерявшая недавно своего мужа-художника и жившая теперь исключительно для детей.
Меня, как ножом, ударило при мысли о том, что вся груда моих тетрадей погибла. Там были все мои юношеские размышления о сущности человеческого сознания, о строении вселенной и о возникновении жизни на мирах. Было несколько совсем готовых статей по общим естественно-научным вопросам, мои наблюдения над жизнью и нравами диких и домашних животных и описания моих научных путешествий в окрестностях Москвы и родного имения. Было много разных недоконченных набросков для будущих научных статей. И вот ничего этого более нет, все сожжено из-за страха перед тем же самым врагом человеческого рода, против которого вышел бороться и я! Чувство мести заклокотало в груди, и мои только что окончившиеся скитания и добродушные теоретические разговоры в народе показались мне самыми ненужными. «Не то надо, не то!» — говорил мне внутренний голос. Надо бороться прямо, с оружием в руках. Наши враги — губители всего хорошего, которых самих надо погубить, чтобы они не погубили всякий свет и свободу на земле.
Я впервые почувствовал себя «отщепенцем», т. е. человеком травленым, с которым для простых людей опасно даже видеться, на которого все обязаны доносить под страхом заключения в тюрьму и административной высылки куда-то в тундры.
Но это чувство меня нисколько не подавляло, а, наоборот, заставило еще энергичнее стремиться идти по раз начатой дороге. Чем ужаснее гнет и порабощение, думал я, — тем необходимее бороться с ним! Но прочь от слабых и нерешительных! Не будем пугать их собою! Я чувствовал, что если я стану здесь рассказывать о своих новых приключениях в народе, то я только удвою страх их матери передо мною. Я знал, она не решится никогда сказать мне прямо: «Не ходите к нам!» Она каждый раз при моем приходе побежит ставить для меня самовар, будет угощать и предложит переночевать у них, а в глубине души будет все время думать со страхом: «А вдруг он согласится на мое предложение?»
Мне было больно взглянуть на своего сконфуженного друга по гимназии. Мне хотелось его утешить.
— Пустяки, — сказал я спокойно по внешности, хотя на душе у меня скребло. — Ничего, что тетради сожгли! Ведь все равно моя жизнь теперь пошла по другому направлению, и мои естественнонаучные статьи мне больше не нужны.
Я остался у них некоторое время. Из вежливости говорил о разных незначительных предметах и ушел, решивши в душе более не заходить в этот дом и видеться с Мокрицким только у Армфельда, надеясь, что он тайно от матери будет приходить туда на собрания.
С грустью вышел я от них. Я сам не понимал, что со мною происходит. Логика говорила мне:
— Ведь ты же обрек себя на жертву за свободу и справедливость, почему же ты так горюешь о своих сожженных тетрадях?
— Потому, — отвечал другой голос в глубине души, — что это сожжена вся твоя юность, первое пробуждение твоей мысли к сознанию, все, что ты любил, чему хотел служить с самого своего детства.
— Но все это пожертвовано тобой, — отвечал первый голос, — уже полгода назад, когда ты раздал все свои книги, научные приборы, коллекции и даже все белье своим товарищам по гимназии. Неужели из твоей души еще не вырваны все корни твоего прошлого? Тогда вырви их поскорее и не жалей, когда другие помогают тебе в этом, как эта бедная женщина, перепугавшаяся за своих детей!
— Но почему же непременно ей нужно было жечь? — возражал второй голос. — Ведь я бы на ее месте никогда не сделал этого. Я унес бы все в сад. У них в саду беседка, положил бы под ее фундамент — там прогнило несколько дыр — или зарыл бы в снег. Одним словом, нашел бы тысячи способов сделать так, чтоб никто не мог найти.
— Она сожгла потому, что у нее, как и у многих, подавляет всякую сообразительность панический суеверный страх перед политическими сыщиками, они ей кажутся всезнающими, всевидящими и всеслышащими. Разговаривая с тобой в своей квартире, в своей столовой с запертыми окнами и закрытыми дверями, она не уверена, что чье-то таинственное ухо не слышит и не записывает каждое ее слово. Она не верит в свой собственный ум, в свою собственную сообразительность. Она растерялась перед призраком невидимой опасности, которая, по ее мнению, подстерегает ее всюду поблизости от заподозренных людей, как я. Надо рассеять этот всеобщий страх примерами бесстрашия, грозными ударами по врагам! Пусть призрак всеведения, всеслышания и невидимого присутствия везде, перенесется с них на тебя! Тогда вековые чары спадут. У злобного волшебника Черномора будет отрезана тобою, как Русланом в сказке, заколдованная борода, и перед всеми предстанет он, как жалкий карлик, и те люди, которые теряют все свои мысли в паническом страхе перед ним, сами будут смеяться над своей прежней трусостью!
— Да, именно так надо сделать! — подумал я. — Как ни интересно ходить в народе крестьянином для его изучения, как ни привлекательно ночевать под стогами и на сеновалах, но это должно служить только подготовкой к чему-то большому, к настоящей заговорщицкой деятельности вроде итальянских карбонариев. Из бродячих пропагандистов среди крестьян мы должны превратиться в невидимых Вильгельмов Теллей.
Было ли толчком к такому повороту моих мыслей простое сожаление о моих только что сожженных естественно-научных рукописях?
Это было первое по счету сожжение их. Потом, в различные времена, мне пришлось потерпеть еще несколько таких же коллективных аутодафе или простых пропаж у друзей, и потому, в результате, всякую свою статью или книгу, пока она не кончилась печатанием, я привык считать как бы ненаписанной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: