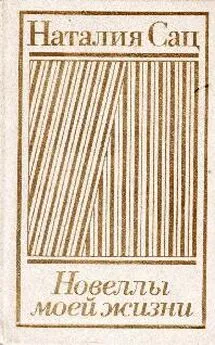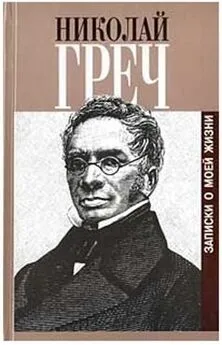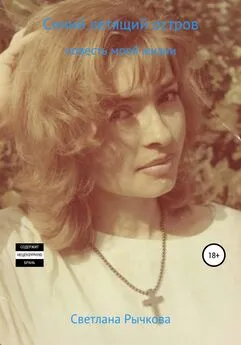Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2
- Название:Повести моей жизни. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Морозов - Повести моей жизни. Том 2 краткое содержание
Постановлением «Об увековечении памяти выдающегося русского ученого в области естествознания, старейшего революционера, почетного члена Академии наук СССР Н. А. Морозова» Совет Министров СССР обязал Академию наук СССР издать в 1947—1948 гг. избранные сочинения Николая Александровича Морозова.Издательство Академии наук СССР выпустило в 1947 г. в числе других сочинений Н. А. Морозова его художественные мемуары «Повести моей жизни», выдержавшие с 1906 по 1933 гг. несколько изданий. В последние годы своей жизни Н. А. Морозов подготовил новое издание «Повестей», добавив к известному тексту несколько очерков, напечатанных в разное время или написанных специально для этого издания.В связи с тем, что книга пользуется постоянным спросом, в 1961 и 1962 гг. было предпринято новое издание «Повестей» в двух томах, которое в основном повторяло трех томное издание 1947 г. Настоящее издание отпечатано с матриц 1961 г.Редакция и примечания: С. Я. ШтрайхОтветственный редактор: проф. Б. П. Козьмин.
Повести моей жизни. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я подал ему нарочно захваченную тетрадку со своими стихами (он тоже писал по временам стихи и давал мне на просмотр).
— Неправда, — ответил он, — ты пришел успокаивать меня. Но ты знаешь, что я должен за это сделать?
— Ничего не слыхал.
Видя, что он не берет стихов, я сам начал читать их.
Он забегал из угла в угол мимо стола, все время поглядывая то на меня, то на место, где лежал нож. И вот через некоторое время я увидел, что дыхание его стало глубже и ровнее, брови понемногу раздвинулись и мрачные черные глаза потеряли бессмысленный вид.
Увидев, что припадок проходит, я спросил его наконец:
— Что с тобою?
— Если буду когда-нибудь на свободе, — ответил он мне загадочно, — прежде всего вызову Стародворского на дуэль.
И он больше никогда не здоровался с ним.
В форточку нашей двери жандармы протянули руку с обедом, я взял и для себя, и для него и с большим трудом уговорил его есть. Тут я пришел невольно еще к одной психической особенности нашей шлиссельбургской жизни, имеющей в основе романтическую подкладку.
Каждый сидевший в одиночном заключении, у которого была соседка, поймет меня без слов. После первых же дней перестукиванья с нею он начинает воображать ее чудом женской красоты и совершенства и влюбляется в нее заочно. Но само собой понятно, что тот образ, который рисуется в его воображении, совсем не похож на реальный, и потому не раз случалось, что при первом же свидании с нею он совсем становился в тупик: не может быть, что это та самая, с которой он перестукивался ежедневно несколько месяцев.
С Верой и Людмилой не случилось этого.
К тому первому периоду, к которому относится рассказанный мною случай с Поливановым, их удавалось уже видеть на прогулке из форточек окна. Но тем не менее каждый был влюблен то в ту, то в другую, хотел сидеть в камере около нее, ревновал других, которые были ближе, и особенно если кто посылал той или другой посвященные ей стихи.
При общем нервном состоянии, причиной которого были пожизненность заключения и только что очерченные мною психопатические постоянные выходки помешанных, сидевших между нами, это приводило нередко к сумасбродным предложениям, которым я всегда противодействовал. Так, раз Попов при каком-то из своих сердечных припадков по поводу Веры или Людмилы поднял агитацию за то, чтобы мы все, вместо того чтобы умирать здесь и сходить с ума безмолвно и поодиночке, умерли бы все разом с эффектом, который может отразиться на самих наших врагах.
— Разобьем все разом окна в наших камерах и будем кричать: «Караул! Нас живыми замуровали в гробы!» Будем кричать и бить кулаками в двери до тех пор, пока часовые нас всех не расстреляют или не придушит начальство.
Поливанову эта идея тоже очень понравилась, и я почувствовал, что если все из нас и не согласятся, то часть действительно способна на такое сумасбродство. Попов начал обвинять несогласных в трусости, а мне захотелось как-нибудь снять с себя и их этот неприятный попрек, и я простучал ему на другой день в стену (мы сидели иногда через камеру) стихотворение, будто бы найденное мною в книге, но на самом деле написанное в тот же вечер.
С ЧЕРКЕССКОГО [92]
Храбрый воин бьется смело,
Битва с ним — плохое дело!
Он в борьбе суров и лих,
Но в плену он прост и тих.
Жалок трус в пылу сраженья,
В бегстве ищет он спасенья.
Но в плену, спаси Аллах,
Забывает всякий страх!
Попов не поверил, что это было найдено мною в книге, и долго сердился на меня, но все же обидная постановка вопроса была снята, все уладилось, и мое стихотворение осталось единственным памятником его предложения.
Вторая наша тревога на романтической подкладке была с Лопатиным.
Очень талантливый как рассказчик и полемист, он также мог писать и недурные стихи и, пользуясь этим, чуть не каждый день посылал через промежуточных товарищей стуком мадригалы и Вере, и Людмиле, сидевшим далеко от него, что стало вызывать у передатчиков ревность и понятное расстройство нервов. А он не обращал на это никакого внимания. Наконец Вере стало неловко, и она попросила его больше не присылать ей стихов. Обиженный, он перестал совсем писать стихи, и нас всех это рассмешило.
Я написал и послал ему тогда такое стихотворение.
Г. А. ЛОПАТИНУ [93]
Давно ль под говор струн и музы сладкогласной,
Товарищ дорогой, ты пел, как соловей?
Скажи же, для чего умолк напев прекрасный?
Что сделалось с тобой и с музою твоей?
Лежит ли на душе тяжелая обуза,
И стал тебе не мил приветный белый свет?
Забыл ли музу ты? Иль вертихвостка-муза
Не хочет воспевать заветный свой предмет?
Иль говорливых струн немолчное бряцанье
Нашло себе врага среди твоих друзей,
И леденит его холодное дыханье
Прелестные цветы поэзии твоей?
Увы! Не знаем мы. Но, сумрачны и сиры,
Безмолвно целый день сидим мы по углам.
Твой громкий голос смолк, твоей не слышно лиры,
И горькая тоска запала в души к нам!
Лопатин не рассердился на мою шутку и ответил такими же шутливыми стихами, но на него очень подействовало, когда Юрковский и Лаговский, обрадовавшись его неудаче, стали издеваться над ним очень зло. Он не оставался в долгу, и в конце концов влетело и мне за попытку прекратить их ссору.
Таковы были несколько случаев потери душевного равновесия, которые имели в нашей шлиссельбургской жизни своим первоисточником романтическую подкладку. Они не менее интересны психологически, чем все остальное, и немало содействовали унылому настроению тех, кто не был к этому склонен по природе. И романтической же стороне, хотя бы и отчасти, приписываю я некоторые другие события, которые не могли содействовать сохранению общего душевного равновесия.
Из всех явлений нашей жизни за последние пятнадцать лет особенно интриговало меня в Шлиссельбурге то обстоятельство, что все, что говорили мы на прогулках, каким-то непонятным, таинственным способом делалось известным коменданту. Я приписывал это тому, что у большинства моих товарищей утратилась способность всестороннего внимания, и потому, начав во время прогулок вдвоем какой-нибудь разговор, они уже совершенно забывают, что за стеной у них стоят дежурные унтер-офицеры. Поэтому во всех тех случаях, когда мне приходилось узнавать какую-нибудь новость, я из предосторожности взял за правило не сообщать решительно никому, каким путем я ее получил, и только потом убедился, что моя осторожность была совершенно необходимой.
Однажды доктор прописал мне на ужин пару яиц, и мне подавали их завернутыми в обыкновенную рыжую бумагу. Вдруг в один прекрасный вечер подают мне их завернутыми в клочок газеты. Я тотчас посмотрел его содержание. Там было написано об убийстве Балмашевым министра внутренних дел Сипягина. Для нас, сидевших много лет без новостей и считавших уже, что всякая революционная деятельность заглохла, это было целым откровением. Я понял, что такой клочок был передан мне нарочно каким-то доброжелателем. Не показать его товарищам было невозможно, и я на следующий день дал его своему соседу по прогулкам, чтоб он передал его далее в щелки смежных прогулочных клеток для прочтения с непременным условием возвратить мне бумажку для уничтожения собственными руками, и тут же объяснил, будто я нашел ее накануне на грядке в седьмом огороде: «Должно быть, часовой обронил ее случайно».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: