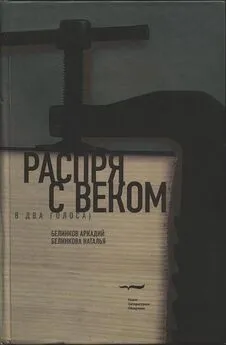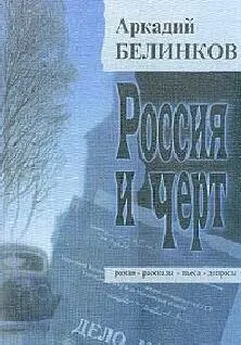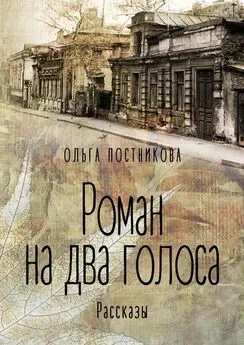Аркадий Белинков - Распря с веком. В два голоса
- Название:Распря с веком. В два голоса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-632-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Белинков - Распря с веком. В два голоса краткое содержание
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Распря с веком. В два голоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На письменном столе начали накапливаться стопочки бумаг с цитатами, отдельными фразами, названиями глав: «Об однотемности Ахматовой», «Причины распри Ахматовой с веком». Аркадий начал систематически посещать Анну Андреевну в доме у Ардовых на Ордынке. Сюда он принес первое издание «Юрия Тынянова» с дарственной надписью, ставшей эпиграфом к этой главе. Он ходил к поэту, как ходят на работу, каждый раз отправляясь с большой неохотой.
Он объяснил мне, что неприятное чувство, с которым он идет и возвращается, связано вовсе не с нею, а с ее окружением: «Курят фимиам и не дают поговорить серьезно». Сейчас я бы извинила тех, кто курил фимиам. Поэту воздавали должное за его высокий, смелый дар и винились за долгие годы его молчанья и страданий.
С самого начала Аркадию показалось, что в Анне Андреевне он нашел единомышленника, что оба даже мыслили в одном ключе и говорили одинаковыми словами: не «кризис» и «генезис» литературных направлений, как это было принято у литературоведов: а «смерть» символизма и «рождение» акмеизма, говорили они, — и он не мог не вспоминать свое «необарокко».
Однажды он взял меня с собой.
На пороге типичной московской квартиры нас встретила не гибкая гитана, а полная пожилая женщина. Ласково поздоровавшись, она повела нас по узкому коридору. Ее поступь была величавой, но шаги были тяжелыми, как у людей с давним сердечным заболеванием. Не классическая шаль спускалась с ее плеч, а широкое выцветшее платье лилового цвета, на котором аккуратными квадратиками красовались две заплаты. Они были заметны, несмотря на то, что были выкроены из того же материала, что и платье. Поношенный этот наряд скалывала на груди огромная, царственной красоты гранатовая брошь. Лицо женщины было большим, бледным, одутловатым и красивым. Челки, столько раз воспетой, не было. Седые пушистые пряди волос были зачесаны назад и заколоты на затылке. Ей трудно дышалось, но голова была гордо откинута, и вся она, вопреки явному нездоровью, наперекор очевидной и постоянной бедности являла царственной персоны портрет. На ее волнистых седых волосах как будто возлежала блистательная корона. Только вот царство было расхищено. А мы выступали в качестве подданных разграбленного королевства, сопричастных судьбе редких, упрямых, как и она, поэтов-современников. Но нам сожалеть, а им — страдать.
Коридор заканчивался гостиной, где, по-видимому совсем недавно, были люди и пили чай. Сейчас на круглом столе посередине комнаты стояли остывшие чашки. Анна Андреевна свернула в маленькую комнатку справа. В ней еле-еле помещались узкая кровать, столик у окна и стул. В переднем углу — икона. На голой стене над кроватью известный портрет поэтессы, сделанный рукой Модильяни. Он как бы напоминал, с кем мы сейчас разговариваем. Но и без того Ахматова Серебряного века с неотвратимостью дневного света проступала через теперешнюю.
Если гостей в комнате было больше одного, то кому-то приходилось сидеть на кровати вместе с Анной Андреевной. В этот раз рядом с ней устроилась я. Аркадий расположился на жестком стуле напротив. Было так тесно, что мы все почти касались друг друга. Сидя, Анна Андреевна опиралась ладонями на свои колени. Таким образом она поддерживала свое тучное тело. Заплаты приходились на уровне колен.
Думаю, будь Анна Андреевна жива, она была бы возмущена тем, что я о ней понаписала. О, я видела ее гнев! Задушевно беседуя с нами, она вдруг прервала сама себя и порывисто, с неожиданной грацией и гибкостью выхватила не то журнальную, не то газетную вырезку из-под пачки бумаг на столике. Это было не то опубликованное за границей ее интервью, не то статья иностранного ученого, имени которого я, к сожалению, не запомнила. «Нет, вы только послушайте, что он тут пишет! — возмущалась Анна Андреевна, переводя с английского описание самое себя: „Меня встретила не изящная властительница поэтических салонов начала 20-го века, а немолодая женщина с руками прачки…“». «С руками прачки!» — яростно и вместе с тем как-то беспомощно-обиженно восклицала она. Я посмотрела на ее руки: они были старческими. Вслух мы притворно разделили ее чувства. Со стены на нас укоризненно посмотрел Модильяни. Было горько. Явно иностранец не имел никакого намерения обидеть Анну Андреевну. Наоборот, он как бы попытался сказать: «До чего довели такого человека в этой стране!» Но у Анны Андреевны было свое мнение о том, как надо о ней писать.
Этот эпизод должен был бы послужить Белинкову предостережением.
Возвращаясь от Ахматовой, Аркадий садился за стол, перекладывал стопочки бумаг, пересматривал однотомники поэтессы и приходил к выводу: «Главное заключается в том, чтобы показать, как сложный душевный мир, тонкость ощущений, глубина переживаний могут возникнуть в результате сложнейшего исторического развития… Таким образом, возникает главный вопрос: как связать поэтическое творчество с историей, с историей культуры, с искусством…» Опять история! Стихи поэтессы еще не цитируются. Аркадий как бы боится сломать хрупкость ахматовских строчек, сопоставляя их с рассуждениями на исторические и политические темы. Потом он замечает: «следует опасаться выводить творчество Ахматовой только из исторических мотивов».
Однако судьба ее поэзии, ее собственная судьба, судьба ее современников вынуждали писать именно об истории: «Связать выход сборника 1940 года с резким изменением идеологической концепции. Это изменение было вызвано тем, что близилась война, и это требовало иных взаимоотношений государства и общества, нежели революция. Подготовка к войне в государстве, покончившем с борьбой классов, оказалась связанной с необходимостью объединения всего народа вокруг привычных представлений о родине, патриотизме, величии народа, исторического прошлого и пр.».
С одной стороны, у поэта: И темные десницы Антиноя вдруг поднялись — и там зеленый дым…
С другой стороны, у критика: «История может не вызвать определенный эстетический ответ, но история может выбрать и усилить подавленные явления».
Трепетные лани поэзии и рабочие лошади литературоведения с трудом впрягаются в одну повозку: «До сих пор все, что мне приходилось читать о стихах, в частности о стихах Ахматовой, весьма определенно тяготело или к анализу темы, или к анализу морфологии. Изредка и к тому и к другому. Причем и то и другое не соединялось. Об искусстве, то есть о явлении исторической идеологии человечества, я не читал. Но, очевидно, нужно писать именно об этом. Особенно это касается Ахматовой, потому что Ахматова это не только художник, но и судьба художника. И об этом и надо писать: об искусстве и судьбе художника».
Опубликованные отрывки из архива Белинкова еще никак не черновики, а заметки, адресованные самому себе. Их место в «лаборатории писательского творчества». Я уверена, что в законченной книге вряд ли бы обнаружилось стилистическое противоречие между лирикой Ахматовой и критикой Белинкова. Сопротивление двух несогласных между собой материалов — лирики и литературоведческого текста — он преодолевал постепенно. Стали появляться наблюдения над творчеством Анненского, Блока, Пастернака. И, наконец, он нашел точку, в которой могли бы сойтись и история, и морфология, и искусство, и личность художника, и его судьба: «связующим звеном должен быть Пушкин».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: