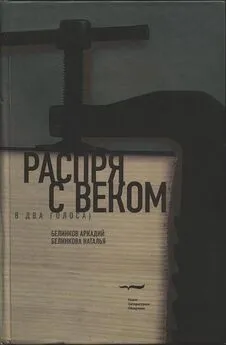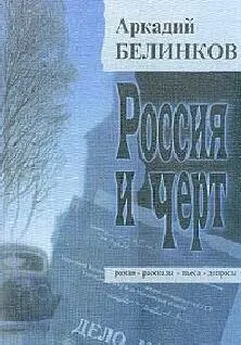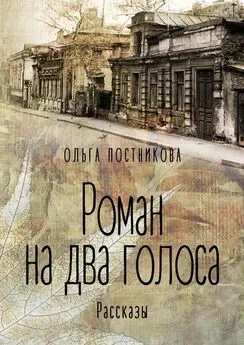Аркадий Белинков - Распря с веком. В два голоса
- Название:Распря с веком. В два голоса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-632-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аркадий Белинков - Распря с веком. В два голоса краткое содержание
«Распря с веком» — свидетельство двух человек о творческой жизни писателя Аркадия Белинкова (1921–1970) в советской России и за рубежом. О поворотах в его судьбе: аресте, эмиграции, ранней смерти.
Фрагментами своих опубликованных и неопубликованных книг, письмами и черновиками Аркадий Белинков сам повествует о времени, жертвой и судьей которого он был.
Наталья Белинкова, прибегая к архивным документам и своим воспоминаниям, рассказывает о самоотверженной борьбе писателя за публикацию своих произведений и о его сложных взаимоотношениях с выдающимися людьми нашего недавнего прошлого: Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским, Виктором Шкловским и другими.
Распря с веком. В два голоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Каждый из нас хоть раз в жизни, а некоторые даже и два, пережил это странное ощущение, когда на наших глазах осуществлялось нечто, что еще накануне казалось совершенно противоречащим здравому смыслу.
Не правда ли?
Слово «парадокс» Пушкин употребляет четыре раза [115] Словарь языка Пушкина. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей. М., 1959. Т. 3.
.
Анна Ахматова в своих напечатанных произведениях не употребила ни разу.
Несмотря на это, проблема парадокса в ее жизни и литературной судьбе играет важную роль.
Парадокс Анны Ахматовой заключается в том, что ее главная тема — отверженная любовь, т. е. одиночество, — определена историей, которая в нашем сознании связана с огромным количеством людей и событий.
История для Анны Ахматовой играет роль не только как детерминанта ее творческой судьбы, а как действующее лицо ее произведений.
Следует иметь в виду, что это действующее лицо из эпизодических.
Но значение этого эпизодического героя часто бывает решающим. Это известно из театра: приходит вестник с двумя репликами, и две реплики меняют судьбы Мироздания.
У Анны Ахматовой эпизодический герой — история — решает ее судьбу.
Дай мне долгие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар.
Так томлюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над скорбной Россией
Стала облаком в славе лучей [116] Стихотворение «Молитва». — Примеч. ред.
.
Странность мнения о том, что Анна Ахматова глубоко определена историей, — мнимая.
«Анна Ахматова и история» — это парадокс, т. е. мнение, «противоречащее на первый взгляд здравому смыслу».
Но только на первый взгляд.
Дело в том, что, думая об Ахматовой, мы упускаем из виду по крайней мере два обстоятельства: определенность историческим [элементом] контекста и роль исторического элемента в формировании ее личности.
После спиритуализма и незаинтересованности человеком и присущими ему переживаниями, характерными для Средних веков, явился Петрарка со своим сложнейшим (дифференцированным, дробным отношением) к человеку и его переживаниям. Прошло четыре века, и снова человек стал интересен не с точки зрения особенностей индивидуальной психики, а как выражение идей и категорий. Наступил классицизм. Ему на смену снова приходит повышенная заинтересованность индивидуальным, уже в романтической концепции и в романтической стилистике, с ее преувеличением и подавлением остальных образующих человеческого характера.
И эта смена, следует полагать, не боясь впасть в типологизм, присуща всей человеческой истории в самых разнообразных ее проявлениях — в истории культуры, политической истории, истории искусств и т. д. И как всегда в истории человеческого существа, эти явления не следуют друг за другом, а всегда существуют вместе, но одно из них всегда подавлено, и всегда подавленное в свое время становится победителем, подавляя (но не до конца) побежденное. Поэтому одновременно существуют такие явления, как «Аполлон» и «Знание», как Пастернак и Сурков.
Было бы нелепым отделять стихи об «истории» от стихов о «любви». И никогда такой поэт, как Ахматова, их не отделяет. Скорее следует говорить о соединении истории и любви в одном стихотворении:
Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест
………………………………………………………
Путь мой, жертвенный и славный,
Здесь окончу я,
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя [117] Из стихотворения «Киев». — Примеч. ред.
.
Из 350 стихотворений Ахматовой в 50 (например) есть история, искусство и пр. Много ли это? Вероятно, нет — в сравнении с другими поэтами, например с Брюсовым. Хороши ли ахматовские стихи оттого, что в них есть история, искусство и пр. Вероятно, нет. У других поэтов сколько угодно истории, искусства и пр., а стихи плохие. Точно так же и наоборот: у прекрасных поэтов нет ни истории, ни искусства и пр. В чем же дело? Дело не в истории, искусстве и пр., присутствующих или отсутствующих в стихотворении, а в том влиянии, которое оказывают история и искусство на человека, написавшего стихотворение, какую историю он выбрал и какая его воспитала.
Если составить исторические ряды, определившие разных поэтов, то отличность этих рядов будет в какой-то мере соответствовать отличности этих поэтов. (Взять исторические ряды двух разных поэтов, например Тютчева и Ахматовой.) Особо проследить, как происходит соединение лирической темы с исторической. Что и как определяется в таком стихотворении? Что такое ахматовское стихотворение без видимых исторических элементов? Но самое главное — как связана основная масса ахматовской любовной лирики, не имеющей никакого видимого отношения к истории, с малочисленной и не лучшей лирикой, в которой история есть, т. е. как историей определена поэзия Ахматовой?
Не история вызывает определенные эстетические ответы. Но история выбирает людей, на которых она может воздействовать и получить то, что ей нужно. Если ей встречаются люди, которые не могут или не хотят удовлетворить ее требования, то она поступает с ними в зависимости и от своих возможностей и в зависимости от возможностей этих людей. Если она достаточно сильна, а человек достаточно слаб, то она, конечно, его уничтожает. Если человек оказывается сильнее ее в известных обстоятельствах, то он может и выжить.
По избирательному сродству история выбирает то, что ей необходимо, и по избирательному сродству человек выбирает то, что нужно ему. Не всегда история одинаково сильна, и не всегда человек достаточно слаб.
А так как история — это люди и их взаимоотношения, то, в конце концов, абстрактное понятие истории трансформируется в очень конкретное понятие взаимоотношений людей, борьбы людей, борьбы одних против других. Это, собственно, и есть история.
Как история вызывает к жизни те или иные явления и почему в истории происходит что-то такое, что эти явления вызывает?
Это снова проблема избирательного сродства. Меняется история и меняется ее эстетическое выражение.
Вдоль широкой изрытой исторической дороги идет путь истории искусства, повторяющий повороты, изгибы дороги истории. История ищет своего эквивалента не только в теме, но и в наиболее выразительной проявленности темы. Задачи истории разрешаются искусством всякий раз в новых, специфичных и наиболее приспособленных формах. Поэтому ритмика античного стиха отлична от ритмики стиха XIX века. Для того чтобы ответить на вопрос, почему возник акмеизм, нужно ответить на вопрос, что произошло в русской истории. (Наиболее характерно — это явная противопоставленность новых поэтов предшествующей школе, символизму. Возможно, здесь следует сказать, что такое символизм с точки зрения мелодического стиха… именно и только с точки зрения стиха, а вовсе не с точки зрения философских и эстетических концепций. Связав с общей установкой символизма этот стих, сказать, что такое внушаемость символического стиха, и [показать] основной способ, каким эта внушаемость осуществляется, т. е. опять же — проблема внушаемости фонетического (мелодического) стиха. Затем следует сказать, что акмеизм возник на противопоставлении себя символизму.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: