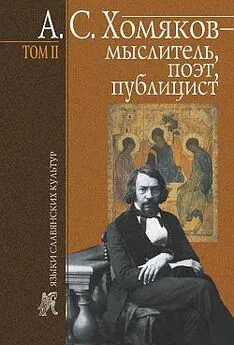Борис Тарасов - Чаадаев
- Название:Чаадаев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Тарасов - Чаадаев краткое содержание
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.
Чаадаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Разворачивая перед своим умственным взором духовную картину прожитых лет, Чаадаев обнаруживает, как часто случалось ему чрезмерно заботиться о мнении других людей, невольно цепляться за пустые привязанности, от чего зависело его душевное равновесие. Для благоприятных же отзывов со стороны окружающих необходимо было отчасти жить воображаемой жизнью в их глазах и неосознанно приукрашивать свое подлинное существо, что все вместе искажало его отношения с ними. Он кажется сейчас самому себе каким-то актером на светской сцене, играющим чужую роль и испытывающим огромное нервное напряжение для имитации естественности создаваемого образа. Подобное напряжение, замечает автор «Искусства долгой жизни», не только вызывает нарушения в пищеварении и кровообращении, но и сокращает жизнь.
Петр Яковлевич видит и другие, принципиальные для него последствия. В таком состоянии, размышляет он, сознание как бы «сокращает» всякое явление действительности за счет проекции на него своих индивидуальных особенностей и потребностей, поиска в нем собственных отражений и тем самым искажает его подлинность. Причем ненасытный молох самолюбия, словно вампир, питающийся чужими жизнями, неизбежно требует умаления и обесценивания всего окружающего, ибо без соответствующего приниженного фона незаметны его отличительные и выделяющие черты.
Но это, так сказать, пределы. В реальной же действительности, размышляет Петр Яковлевич, он старался распространять «сокровища гражданственности», сеять мысли об освобождении крестьян от крепостного права и заботиться о благе всего человечества. Но теперь он понимает, что в основе его благих устремлений лежала скрытая эгоистическая выгода усиленного самосохранения, любовь к людям «в своем интересе», а не в их. «Что бы мы ни делали, — обобщает он чуть позднее, — какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя; в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое».
Вот и его незабвенные друзья декабристы, думает Чаадаев, подставили, не сознавая того, «нечто свое» в страстную проповедь свободы. Ну а дальше-то, дальше, восклицает он мысленно, что стали бы с ней делать эти благородные страдальцы, если бы получили возможность «раздать» ее людям? Не пошли бы «свободные люди» дорогой «дикого осленка», подчиняющегося любому прихотливому желанию для своего «счастья», или путем уклонившегося от правильного движения атома, принимающего возможность такого уклонения за самую правильность, за последнюю стадию прогресса? «Предположим, — станет он рассуждать в философических письмах, — что одна-единственная молекула один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечном пространстве? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз мы потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, — зачем наделил он их этой страшной силой?»
Страдая в поисках ответов на подобные вопросы, Чаадаев воображает себя одним из таких блуждающих атомов, участвующим вместе с мириадами и мириадами других в «раздергивании» Вселенной на части. Когда он в очередной раз углубляется в испещренное карандашом Священное писание, то почти физически слышит описанный в Апокалипсисе «треск мироздания», раздающийся, как ему кажется, в каждую минуту истории и увлекающий в пропасть взбунтовавшиеся своевольные и «счастливые» атомы.
Да, смерть и небытие на конце того пути, по которому он так уверенно шел и по которому продолжают «победно» идти тысячи людей, увлекая за собой другие тысячи. Но почему он так боится смерти? Ведь он еще в юности видел, проливающуюся кровь и не терял бодрости духа. Читая в книге Дроза «Искусство быть счастливым» о человеке, одолевшем благодаря мужеству гибельную ситуацию, Петр Яковлевич вспомнил похожий случай из собственной жизни, поставил на полях специальный знак и дату 1812. Да, в те военные годы, отодвинувшиеся теперь так далеко, будто и вовсе не существовали, он был мужественным, а потом вдруг появился страх, даже ужас перед последним выпадением своего родного и неповторимого «я» из потока жизни в какую-то бездонную пропасть. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! — писал восемнадцатилетний Лермонтов М. А. Лопухиной. — При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи».
Испытывая подобные чувства, Чаадаев одновременно спрашивал себя: постигает ли он причину своего ужаса перед смертью? Вот Марк Аврелий советует спокойно ожидать конца и думать о нем как о простом распаде элементов тела, без боли переходящих друг в друга. А ему, подчеркивающему в книге античного философа рассуждения о самоубийстве, невыносима мысль (почему-то еще более страшная, чем исчезновение, «я») о длительных физических, страданиях и о медленном разложении тела, лишенного привычных элегантных покровов, на которое будут смотреть некогда восхищавшиеся им люди (именно мгновенность агонии, всплывает вдруг в памяти Петра Яковлевича, манила его броситься в пропасть со швейцарской скалы). Однако он не знает, какая смерть и какие страдания ожидают его в будущем, а сам факт уничтожения волнует его менее. Тогда в чем же более существенная причина страха? Не в том ли, предполагает он, что смерть есть лишь момент в целостном бытии человека, когда тот перестает ощущать себя в своем теле и начинает жить другой, новой жизнью, неизвестность которой и страшит его?
И не мертвы ли мы тогда, переключается мысль Чаадаева на более понятные вопросы, когда считаем, что живем? Часто по утрам, пробуждаясь и глядя по привычке в заиндевевшее окно на уже засыпанные снегом соломенные крыши, он думал, что сон не подобие смерти, а настоящая смерть, ибо нельзя назвать жизнью часы, проведенные без сознания. И не спят ли люди, а стало быть и мертвы, не гиперболически-фигурально, а буквально мертвы, когда отдаются течению обстоятельств, а не созидают их каждое мгновение по законам высшего знания? И сам он долго спал, и жизнь постоянно ускользала от него, пока наконец он не пробудился. «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся», — подчеркивает Петр Яковлевич евангельские слова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: