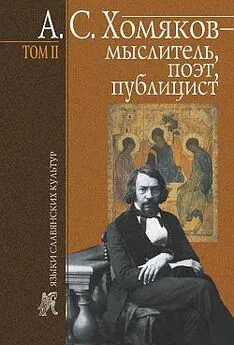Борис Тарасов - Чаадаев
- Название:Чаадаев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Тарасов - Чаадаев краткое содержание
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.
Чаадаев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Живой и ясный ум, широкая образованность, тонкая наблюдательность сочетались в ее характере с веселым нравом и добродушием. Большой знаток европейских литератур, она много переводила с иностранных языков, и о ее стиле с высокой похвалой отзывался Жуковский, близкий ее родственник. Последний представлял на ее суд произведения еще в рукописи и учитывал ее замечания в окончательной их редакции. В «Республике привольной у Красных ворот», как называл дом Елагиных поэт Николай Языков, гостеприимная и просвещенная хозяйка принимала в конце 20-х — начале 30-х годов А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, А. С. Хомякова, Е. А. Баратынского, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, П. А. Вяземского, И. И. Дмитриева, Д. Н. Свербеева, М. Ф. Орлова, А. И. Тургенева. «Тут, — замечал А. И. Кошелев, — бывали нескончаемые разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 и 6-м часу ночи или утра». Участником разговоров и споров на елагинских воскресных вечерах сделался и Чаадаев, часто появлявшийся там с неразлучным Салтыковым.
В доме Авдотьи Петровны особенно выделялся в глазах Чаадаева ее старший сын Иван Киреевский, который был моложе Петра Яковлевича на двенадцать лет, но уже отличился на поприще литературной критики и которого Жуковский называл «самым чистым, добрым и даже философическим творением». Аполлон Григорьев писал, что И. В. Киреевский является автором «первого философского обозрения нашей словесности», имея в виду опубликованное в 1830 году в альманахе «Денница» его «Обозрение русской словесности 1829 года». Пушкин так оценил его: «…Там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое Обозрение словесности, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко». Но еще двумя годами раньше в «Московском вестнике» появилась его статья «Нечто о характере поэзии Пушкина», ставшая первым опытом проницательного истолкования творческой эволюции писателя. Прочитав эту работу, Жуковский писал матери ее автора: «Благословляю его обеими руками писать — умная, сочная, философическая проза».
Философскому уклону литературных интересов Ивана Киреевского способствовали и основательное домашнее образование в кругу просвещенных родителей и родственников, и общение с «любомудрами» в ранней молодости, и природные свойства его личности, соединявшей, если говорить словами Жуковского, глубокий ум и душевную чистоту. Благородство его натуры выразилось и в осознании им собственного призвания. «Не думай, однако же, — писал он в начале своей литературной деятельности другу А. И. Кошелеву, — чтобы я забыл, что Русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы — я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором, а содействовать просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать?»
Поставив себе целью образовываться всю жизнь, Киреевский в 1830 году, едет за границу, где слушает лекции тогдашних философских знаменитостей, знакомится с Шеллингом и Гегелем. Вернувшись на родину, он осенью 1831 года приступает к исполнению заветного решения издавать журнал, к сотрудничеству в котором привлекает В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, H. M. Языкова, А. И. Тургенева, А. С. Хомякова. Пушкин (не оставивший еще замысла создания политической газеты) готов присылать для нового журнала, названного «Европейцем», пока еще не оконченные произведения, но журнал неожиданно запрещается на третьем номере вследствие весьма примечательного доноса. «Киреевский, добрый и скромный Киреевский, — замечает Пушкин в одном из писем, — представлен правительству сорванцом и якобинцем! Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники — или, по крайней мере, клевета — успокоится и будет изобличена».
Клевета легла на почву, подготовленную самим правительством в удобренную им. Мании подозрении и недоверия к благородным и стремящимся приносить пользу соотечественникам заставляла начальство III отделения прибегать к таким средствам, которые подрывали моральный авторитет государства, отталкивали от него лучших представителен народа и тем самым незаметно, но верно участвовали в расшатывании его могущества и в подготовке его грядущего падения. Один из мемуаристов, рассказывал о конце 20-х и о 30-х годах, писал: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы; весь сброд человеческого общества подвинулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом». Доносчик на Киреевского принадлежал скорео всего не к сброду, а к литературной братии, и его усилие легко наложилось на давний интерес III отделения к личности издателя нового журнала. В число подозреваемых (к ним не переставал относиться и Чаадаев) попал даже Жуковский, который, узнав о незаконной проверке его послании, сообщал А. И. Тургеневу: «Кто вверит себя почте? Что выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит! Как же хотят уважения к законам в частных лицах, когда правительство все беззаконие себе позволяет?»
Сам император обнаружил в статье И. В. Киреевского «Девятнадцатый век», напечатанной в первом номере «Европейца», «сокровенный» смысл. Сочинитель, передает мнение Николая I Бенкендорф, рассуждая о литературе, разумеет совсем иное: «Под словом просвещение он понимает свободу… деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное как конституция».
И хотя Жуковский обоснованно доказывал полную несостоятельность подобных истолкований и обвинении Киреевского в желании замаскировать философией политику, журнал окончательно прикрыли, изъяв из участия в общественной жизни литератора с благородными помыслами.
«Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным», — писал Баратынский Киреевскому после запрещении «Европейца».
Издателю журнала позволили нарушить мыслительное молчание лишь оправдательной запиской. А составил ее… Чаадаев. Иван Васильевич прибегнул к услугам Петра Яковлевича не только потому, что часто беседовал с ним у себя дома, слушал его речи в других московских салонах. Чаадаев, очевидно, давно приметил талантливого и чистого сердцем молодого человека, пытаясь посвятить его в «тайну времени», в «одну мысль». И, кажется, на первых порах небезуспешно. «Вы знаете, — замечал в неопубликованном послании к Ивану Киреевскому автор философических писем, — что время мчится галопом. Остерегайтесь, оно может унести меня на своем крупе, и тогда прощай наши общие надежды, наши общие ожидания! Что станет со всем этим? Печальное воспоминание, возможно, раскаяние. Очевидно, что время катится очень быстро: есть чему вызвать головокружение у того, кто чувствует его движение. И посреди этого видеть людей с закрытыми глазами, полууснувших, ждущих, когда вихрь их опрокинет и унесет вверх тормашками неизвестно куда, возможно в пекло, где происходит великая переплавка всех вещей…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: