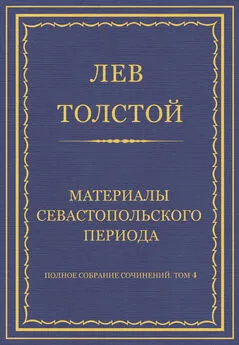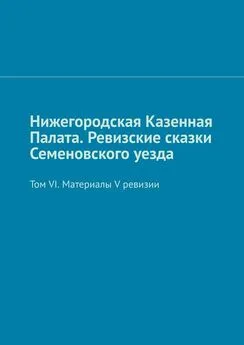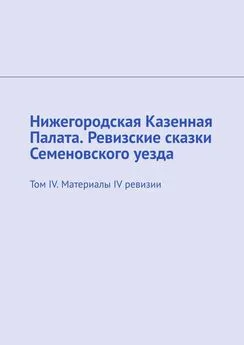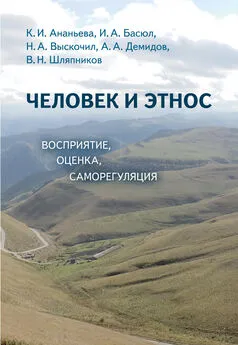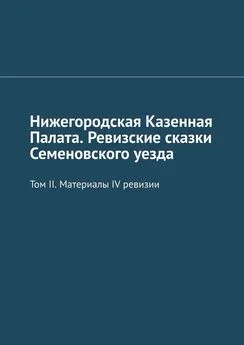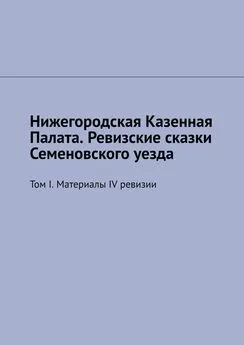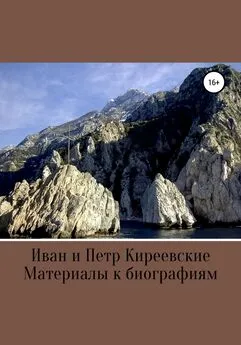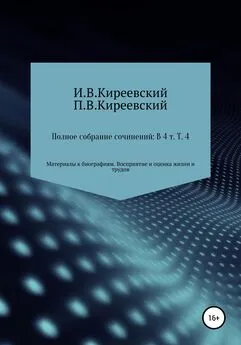Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества
- Название:Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский педагогический центр «Гриф»
- Год:2006
- Город:Калуга
- ISBN:5-89668-112-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Т. Толычова - Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества краткое содержание
Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества / Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского. — Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 2006. — 656 с.
Издание полного собрания трудов, писем и биографических материалов И. В. Киреевского и П. В. Киреевского предпринимается впервые.
Иван Васильевич Киреевский (22 марта/3 апреля 1806 — 11/23 июня 1856) и Петр Васильевич Киреевский (11/23 февраля 1808 — 25 октября/6 ноября 1856) — выдающиеся русские мыслители, положившие начало самобытной отечественной философии, основанной на живой православной вере и опыте восточнохристианской аскетики.
В четвертый том входят материалы к биографиям И. В. Киреевского и П. В. Киреевского, работы, оценивающие их личность и творчество.
Все тексты приведены в соответствие с нормами современного литературного языка при сохранении их авторской стилистики.
Адресуется самому широкому кругу читателей, интересующихся историей отечественной духовной культуры.
Составление, примечания и комментарии А. Ф. Малышевского
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
Note: для воспроизведения выделения размером шрифта в файле использованы стили.
Том 4. Материалы к биографиям. Восприятие и оценка личности и творчества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дело Киреевского в науке всего ближе соприкасается с делом самого Хомякова. Наиболее сильные после них и младшие по годам представители славянофильского учения трудились в иных сферах мысли.
Будучи согласны в основных воззрениях, Киреевский и Хомяков должны были встречаться в решении и разработке отдельных вопросов. И действительно, в двух главных статьях Киреевского мы находим многое, представляющее, по-видимому, повторение мыслей Хомякова или наоборот. Но из этого совпадения, хотя не случайного, а обусловленного сходством и даже тождеством основных положений, не следует, что бы один из них заимствовал что-либо у другого. Хотя Хомяков оказал несомненное воздействие на изменение образа мыслей Киреевского, но знаем также, что самое это изменение не было полным переворотом, отречением от всех прежних убеждений, а подготовлялось постепенно. Вместе с тем религиозные убеждения Киреевского изменились не столько в силу умозрительной работы, сколько под непосредственным воздействием сильной личности подвижника-духовника, тогда как Хомяков вырос в православном образе мыслей. Поэтому, быть может, вера Хомякова была более спокойная, вера Киреевского — более восторженная.
Что касается до области занятий обоих, то круг изысканий Киреевского входит, как часть, в более широкий круг Хомякова, захватывавший собой, кроме богословских, историко-философских и художественных вопросов, еще собственно историю, лингвистику и множество других отраслей человеческого знания. Но зато нет сомнения, что только смерть не допустила Киреевского до самостоятельной и подробной разработки учения о вере как познавательной способности — учения, которое, конечно, мы находим и у Хомякова, но которому он не посвятил — быть может, впрочем, также лишь не успел посвятить — особого труда, ибо мы не знаем, каково было продолжение его последнего письма к Самарину.
Итак, первая попытка построения философии на христианских началах — вот важнейшая заслуга Киреевского.
Он не успел осуществить этой попытки, не успел создать новой философии, но почин принадлежит ему бесспорно и нераздельно.
Живя весь в вере философии, Киреевский мало принимал участия в волнениях дня и века. Будучи человеком редкой доброты и образцовым помещиком, он даже, к великому огорчению своего друга Кошелева, был равнодушен к начавшейся еще при его жизни подготовке освобождения крестьян, полагая, что все силы русских людей должны быть прежде всего направлены на разрешение вопросов веры и нравственности. На этом, быть может, отразилась его близость к созерцательному монашеству.
В самой этой близости — другая сторона исторического значения Киреевского. Все славянофилы по своей вере и сознательно православным убеждениям были людьми церковными, и недаром про Хомякова сказано, что он жил в церкви, но ни один из них не был так тесно связан с лучшими представителями церковного клира и с самой живой и действенной его частью — просвещенным монашеством — как И. В. Киреевский. Своим многолетним единением с оптинскими старцами он показал на деле, что не один темный люд может искать духовного просвещения у этого древнего источника, что и много учившиеся люди напрасно думают — в лучшем случае, когда думают без вражды — снисходить до этой области, а что им приходится возвышаться до нее. В этом смысле если по многим важнейшим вопросам человеческого знания Иван Васильевич Киреевский останется для многих поколений русских людей добрым учителем, то самая жизнь его — поучительный урок.
М. О. Гершензон
Иван Васильевич Киреевский
В одной из записных книг Николая Ивановича Тургенева на первой, белой странице написаны следующие строки: «Характер человека познается по той главной мысли, с которой он возрастает и входит в могилу. Если нет сей мысли, то нет характера». У Ивана Киреевского была такая мысль, и этого одного было бы довольно, чтобы оправдать воспоминание о нем, даже если бы его мысль всецело принадлежала прошлому. Но она жива поныне, она представляет такую большую духовную ценность, что забвение, которому предано у нас имя Киреевского, можно объяснить только незнанием о ней — и ради нее-то я хочу воскресить полузабытый образ Киреевского.
Понять мысль, которой жил Киреевский, можно только в связи с его жизнью, потому что он не воплотил ее ни в каком внешнем создании. Он ничего не сделал и очень мало написал, да и в том, что им написано, эта мысль скорее скрыта, чем выражена, как фундамент, на котором покоится все здание, но который сам не виден.
В этом самом факте, что внешняя деятельность Киреевского свелась к нулю, что он ничего не сделал и, будучи писателем по призванию, очень мало написал, заключается вся социальная сторона его биографии. При тех исторических условиях, в каких жил Киреевский, его жизнь неизбежно должна была оказаться внешне бесплодной. Он был лишний человек, как и все передовые умы его времени, — это основной факт его внешней жизни.
Ему было 19 лет, когда вступил на престол Николай, а пережил он Николая всего на год с лишним, таким образом, вся его зрелая жизнь прошла в жестокую пору николаевского владычества. Он был человек большой нравственной силы, настойчиво искавшей себе применения, толкавшей его в жизнь, в борьбу, на общественное поприще, он любил литературу беззаветно, чувствовал в себе призвание к ней и много раз, после тяжелых, оскорбительных неудач, возвращался к ней, но таковы были условия времени, что все его усилия оказались тщетными, и ему пришлось уйти с горьким сознанием праздно прожитой жизни, так много обещавшей делу добра. Я приведу краткий «послужной список» Киреевского, беспримерный даже для николаевской эпохи.
Он рано решил посвятить себя общему благу и рано выбрал себе поприще служения — литературу. Двадцати одного года (в 1827 г.) он пишет своему другу Кошелеву, упрекавшему его в косности и звавшему в Петербург:
Не думай, что бы я забыл, что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! Все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут бесполезны, я могу это сказать без самонадеянности.
И далее он развивает целую программу общеполезной деятельности совместно с друзьями и с его четырьмя братьями, которые все будут литераторами и у всех будет отражаться один дух.
Куда б нас судьба ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет общая цель — благо отечества — и общее средство — литература.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: