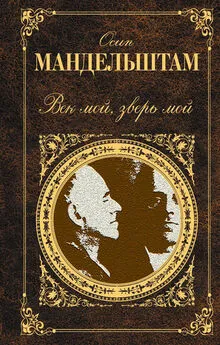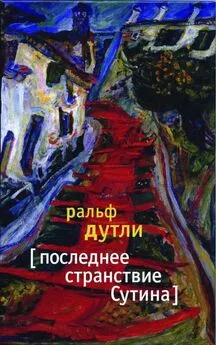Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Название:Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0346-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография краткое содержание
Немецкое издание книги Ральфа Дутли о Мандельштаме — первая на Западе полная биография одного из величайших поэтов XX столетия. Автору удалось избежать двух главных опасностей, подстерегающих всякого, кто пишет о жизни Мандельштама: Дутли не пытается создать житие святого мученика и не стремится следовать модным ныне «разоблачительным» тенденциям, когда в погоне за житейскими подробностями забывают главное дело поэта. Центральная мысль биографии в том, что всю свою жизнь Мандельштам был прежде всего Поэтом, и только с этой точки зрения допустимо рассматривать все перипетии его непростой судьбы.
Автор книги, эссеист, поэт, переводчик Ральф Дутли, подготовил полное комментированное собрание сочинений Осипа Мандельштама на немецком языке.
Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И право, не твоя вина, —
Зачем оценки и изнанки?
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки. […]
Так не старайся быть умней,
В тебе все прихоть, все минута,
И тень от шапочки твоей
Венецианская баута (I, 152).
Опера Глюка, балет Стравинского, венецианский карнавал… Голодные петербуржцы хватались за эти красочные представления, как утопающий за соломинку. К ритуалу того голодного времени относились также поэтические вечера. 18 ноября 1920 года Мандельштам читал свои стихи в Доме искусств; вступительное слово произнес Виктор Жирмунский. В суровую зиму 1920/1921 года за эти выступления удавалось получить немного хлеба, которого тогда не хватало в первую очередь.
Большевистская политика насильственного изъятия продуктов, отличавшаяся крайностями и произволом по отношению к крестьянам, почти полностью парализовала сельскохозяйственное производство. Приближалась экономическая катастрофа. 22 января 1921 года в больших городах на треть сократилась норма хлеба, выдаваемая на одного человека; за этим последовал топливный кризис. Городской пролетариат страдал от холода, голода и безработицы. Григорий Зиновьев, руководитель Петросовета, 24 февраля ввел в городе чрезвычайное положение и приказал войскам выступить против бастующих. Затем произошло весьма трагическое и разоблачительное для большевиков событие. В знак солидарности с петроградскими рабочими матросы Кронштадта составили 28 февраля 1921 года резолюцию, в которой требовали провести новые выборы и вернуть основные свободы «рабочим и крестьянам, анархистам и лево-социалистическим партиям». Это был протест пролетарских революционеров, направленный против единовластия большевиков. Но большевики не терпели никакой оппозиции: 18 марта 1921 года, после тяжелых боев, Кронштадт был взят войсками Тухачевского, а все восставшие без разбора уничтожены. Советская пропаганда пыталась представить кронштадтский мятеж «белогвардейским заговором», однако, подавив это пролетарское восстание, новая власть дала почувствовать своим подданным, что ждет их в будущем.
В марте 1921 года, в самый разгар политических потрясений, Мандельштам вновь уезжает в Киев. Его последнее петроградское впечатление — пушечная канонада, доносящаяся из Кронштадта. От жены Эренбурга он узнает новый киевский адрес Надежды Хазиной, которую не видел с августа 1919 года. Их разлучила сумятица и смута гражданской войны. И вот он опять приезжает в Киев и, к немалому удивлению Нади, сызнова признается ей в своей любви. Она соглашается ехать с ним в Москву. В ходе официальных кампаний тех лет по «отчуждению собственности» родителей Нади дважды выселяли из их жилья. Когда Мандельштам вошел, в квартиру как раз пригнали толпу арестанток — мыть полы. В знак протеста оба остаются еще на два часа в Надиной комнате, где Мандельштам читает ей свои новые стихи. Вскоре они выезжают на Север, и с тех пор — вспоминает Н. Я. Мандельштам — «…мы больше не расставались, пока в ночь с первого на второе мая 1938 года его не увели конвойные» [183] Там же. С. 28.
.
Еще до отъезда в Киев Мандельштаму пришлось в очередной раз осознать, что он — как и в стихотворении «Tristia» (1918) — должен навсегда проститься — проститься со «старым миром». 14 февраля 1921 года в петербургском Исаакиевском соборе проходила заупокойная служба — в память о Пушкине. Это событие Мандельштам обращает в стихи. Словно для того, чтобы продемонстрировать напоследок свое восхищение христианством и выразить ему свою верность, которой он «вовеки не изменит», поэт воссоздает грандиозное внутреннее пространство собора, созданного Монферраном. Это последнее религиозное (в подлинном смысле этого слова) стихотворение Мандельштама, завершающее цикл его стихов, в которых воспеваются церкви и святые места, духовные центры православия и католичества:
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета (I, 154).
И как бы для обуздания всяческого страха перед тем, что грядет, звучит в этом стихотворении заклинающий стих: «Зане свободен раб, преодолевший страх». Страх — лейтмотив творчества Мандельштама 1920-х годов. Надежда Мандельштам пишет в своих воспоминаниях, что он, будучи внутренне сильным человеком, не знал тогда никакого страха, потому что обладал «свободой» [184] Там же. С. 182.
. Нельзя, однако, не видеть, как часто появляется в творчестве Мандельштама мотив страха. Пусть даже как магическое заклинание, призванное изгнать страх [185] Мотив страха в творчестве Мандельштама 1920-х годов см. в стихотворениях: «Веницейская жизнь» («Ибо нет спасенья от любви и страха»; I, 145); «Возьми на радость из моих ладоней…» («Не превозмочь в дремучей жизни страха»; I, 147); «В Петербурге мы сойдемся снова…» («Мне не надо пропуска ночного / Часовых я не боюсь»; I, 149); «Я наравне с другими…» («Мне страшно без тебя»; I, 153); «Люблю под сводами седыя тишины…» («Зане свободен раб, преодолевший страх»; I, 154); «Концерт на вокзале» («Я опоздал. Мне страшно. Это сон»; II, 36); «Грифельная ода» («Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг»; II, 46). См. также в «Египетской марке»: «Страх берет меня за руку и ведет. Белая нитяная перчатка. Митенка. Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: “С ним мне не страшно”» (II, 494). Тот же мотив в стихотворениях 1930-х гг.: «Куда как страшно нам с тобой…» (III, 35); «Помоги, Господь, эту ночь прожить…» («Я за жизнь боюсь, за твою рабу»; III, 44); «Фаэтонщик» («Я изведал эти страхи, / Соприродные душе»; III, 58); «Квартира тиха, как бумага…» («И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего страха струя / Ворвется в халтурные стены / Московского злого жилья»; III, 75); и др.
.
В мае 1921 года в петроградском альманахе «Дракон» появляется одна из важнейших статей Мандельштама «Слово и культура». В ней лаконично заявлено: «Культура стала церковью» (I, 212). В злободневной перебранке между футуристами и имажинистами статья Мандельштама воспринималась как провокация. Он возвеличивает церковь-культуру и классическую поэзию («Классическая поэзия — поэзия революции»), И пытается обрисовать своеобразный устремленный в будущее классицизм, который не отрицает прошлого и признает цикличность человеческого опыта. Мандельштам мечтал о «новых» поэтах, но совсем иных, нежели футуристы и имажинисты:
«Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл. […]
Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер» (I, 213–214).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: