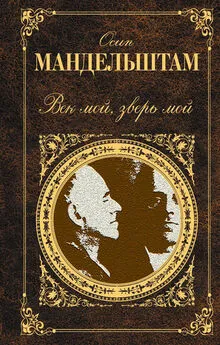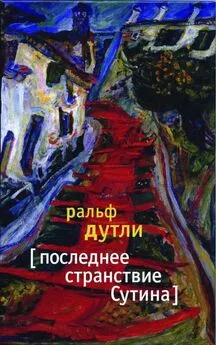Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Название:Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0346-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ральф Дутли - Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография краткое содержание
Немецкое издание книги Ральфа Дутли о Мандельштаме — первая на Западе полная биография одного из величайших поэтов XX столетия. Автору удалось избежать двух главных опасностей, подстерегающих всякого, кто пишет о жизни Мандельштама: Дутли не пытается создать житие святого мученика и не стремится следовать модным ныне «разоблачительным» тенденциям, когда в погоне за житейскими подробностями забывают главное дело поэта. Центральная мысль биографии в том, что всю свою жизнь Мандельштам был прежде всего Поэтом, и только с этой точки зрения допустимо рассматривать все перипетии его непростой судьбы.
Автор книги, эссеист, поэт, переводчик Ральф Дутли, подготовил полное комментированное собрание сочинений Осипа Мандельштама на немецком языке.
Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам. Биография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь? Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо.
Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее» (IV, 140–141).
Но где же современность? Скрытый упрек Мандельштама сводился к тому, что именно современность в сталинскую эпоху как бы утаивается — подменяется обещаниями «светлого будущего». Однако отцовские укоры не привели к отчуждению, напротив: обособившись от него в «Шуме времени» (1925), Мандельштам продолжает сближаться с отцом.
В письме Мандельштама к отцу отразились также мечты бездомного кочевника о «крошечной квартирке», неясные перспективы и робкие надежды, которые в конце концов рухнули: заведующий районным управлением народного имущества отказался выдать ордер, «ссылаясь на 2 тысячи красноармейцев, ожидающих очереди на площадь». Мандельштам обратился тогда к «авторитетным товарищам» (возможно, из окружения Бухарина), и те ответили, что он «по-своему тоже мобилизован» и тоже состоит «в какой-то очереди» (IV, 141). Мечтам «мобилизованного» о квартире не суждено было сбыться, но в мае 1931 года происходит все же маленькое чудо, хотя и не на жилищном фронте.
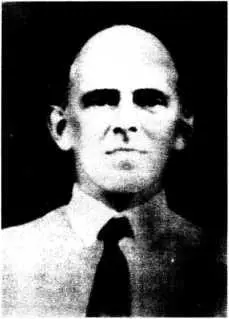
«Держу пари, что я еще не умер»
Осин Мандельштам, начало 1930-х годов
После стихов марта апреля 1931 года, наполненных предчувствиями насилия, ссылки и казни, после бунта против «курвы Москвы» и «шестипалой неправды», после всех усилий совладать с бесами, поэт дает себе слово идти навстречу эпохе, держаться с ней более свободно и открыто. Он не уединяется в Старосадском переулке, обличая пером свое лживое время, — часами блуждает по улицам Москвы, впитывая в себя новую действительность. Некоторые из его стихов содержат требования, открытые призывы, весенние излияния жизненного чувства. Таково, например, стихотворение, написанное 7 июня 1931 года («Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..»):
Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет (III, 57).
А в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (дата: 4 июня 1931 года) это ощущение жизни оборачивается императивом: «Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!» Посредством свободного стиха и моментальных снимков гуляющий по Москве поэт воссоздает ее «буддийское лето», ночной ремонт трамвайных путей, толпу людей, выходящих из кино и оглушенных настолько, что «им нужен кислород» (какую бессмысленную пропагандистскую ленту им только что пришлось посмотреть?!), музеи и парки. Глубоко затаенная острота ума побуждает Мандельштама по-новому взглянуть на эпоху. Он доходит до принципиально важного утверждения, опровергающего то, что он писал в январе 1924 года, отказываясь от современности («Нет, никогда ничей я не был современник…»). Теперь его вызов звучит совсем по-другому:
Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам себе свернете шею! (III, 53).
Собственно говоря, Мандельштам назначает себе курс омоложения. Он, который состарился ужасающе рано — к сорока годам (об этом свидетельствуют многие современники), беззубый, страдающий от одышки и сердечного заболевания, опирающийся на палку, — воспевает летом 1931 года жажду жизненных ощущений. Это явствует из стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани…» — оно завершается (в сохранившемся варианте) гимном, прославляющим сверкающие темные спины молодых татарских рабочих, и призывает к наслаждению беспокойством:
Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить…
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня (III, 60).
Кажется, что этим стремительным порывом он хочет защититься от своего преждевременного старения. «Еще далеко мне до патриарха»: так начинается состоящее из десяти строф стихотворение, возникшее все тем же летом 1931 года. Яркими поэтическими деталями предстают здесь будничные приметы городской жизни: уличные фотографы, телефонные разговоры, торговцы и старые книги, китайская прачечная, скрипучие трамвайные вагоны, асфальт и строительные леса («в начале стройки ленинских домов»), И поэт подытоживает: «И не живу, и все-таки живу». Однако именно последняя строфа демонстрирует одиночество Мандельштама в ту эпоху, болезненное для него отсутствие подлинных собеседников:
И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой (III, 55).
Эта горстка стихов, в которых сквозит подчеркнуто свободное и открытое общение с современностью, никоим образом не свидетельствует о том, что поэт готов был раствориться в своем времени, примириться с ним или приспособиться к нему. Слишком ощутимы в них язвительные намеки, направленные против современников и современности. Поэт заставляет себя признаться в своей любви к «московским законам», но не строит себе, однако, иллюзий насчет современной жизни, подчиненной законам насилия: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни» (III, 56). И все же это стихи человека, желающего идти по Москве с открытыми глазами, гонимого пробудившимся в Армении «голодом зренья», как о том говорится в одном из фрагментов от 6 июня 1931 года:
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз — хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
Больше светотени —
еще, еще! Сетчатка голодна! (III, 56).
В июне Мандельштамы въезжают на несколько месяцев в дом на Большой Полянке в Замоскворечье — старом купеческом районе Москвы, расположенном напротив Кремля «за Москвой-рекой». В квартире юриста, который подолгу отсутствует, они снимают тихую комнату. Мандельштаму нужна тишина, поскольку летом 1931 года он интенсивно работает над своим прозаическим произведением «Путешествие в Армению».
Благодаря ворчливым соседям ему открывается малопривлекательный тип нового человека. «Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь» (III, 187). Все контролируют друг друга, добавляет он в записной книжке, «в соблюдении правил коммунального общежития» (III, 379). Когда во дворе спиливают старую липу, Мандельштам отождествляет себя с деревом («Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы») и осмеивает в своем произведении «неумелых исполнителей гнусного приговора» (III, 187). Воскресшая в нем мечта о жизненной полноте Армении неумолимо наталкивается — при таком печальном соседстве — на жестокие контрасты: «Нигде и никогда я не чувствовал с такой силой арбузную пустоту России» (III, 187). Противопоставление русской пустоты армянской полноте — один из критических мотивов путевой прозы, над которой он в то время работает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: