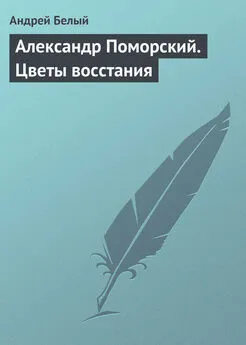Александр Лавров - Андрей Белый
- Название:Андрей Белый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-537
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лавров - Андрей Белый краткое содержание
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.
Андрей Белый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на категоричность этих заявлений, сомнительно, что в последний год «Весов», когда идея скорого завершения издания властвовала над умами всех ведущих участников журнала, действительно существовали в его редакционном комитете четко оформившиеся «партии» с определившимися идейно-эстетическими позициями; скорее всего — намечались лишь те или иные поляризации мнений при обсуждении конкретных обстоятельств ведения журнала. (Других прямых свидетельств, подтверждающих слова Белого о «двух партиях», не выявлено.) Но тем не менее показательно, что в своих позднейших характеристиках внутриредакционной жизни той поры Белый осознавал Балтрушайтиса как одного из тех «весовцев», на кого он мог опереться как на единомышленника и сподвижника. Балтрушайтис, представитель старшего «скорпионовского» поколения, и Белый, представитель последующего поколения, имели глубинные основания для внутреннего взаимопонимания и созвучия и для литературно-тактической близости, коренившиеся прежде всего в религиозной доминанте их мировидения и творчества. Их религиозно-мистическая устремленность, однако, по своей индивидуально-психологической природе несла в себе существенные различия. Если воспользоваться универсальными символистскими мифологемами, то творческие миры Белого и Балтрушайтиса допустимо со- и противопоставить как мир «дионисианский» миру «аполлоническому»: с безмерностью и динамизмом творческих осуществлений Белого контрастирует размеренная гармония лирики Балтрушайтиса с ее, по словам Вяч. Иванова, «статической символикой» и ритмикой, в которой «мало подвижности жеста и танца» [541]. «Статическую символику» Балтрушайтиса выявляет и анализирует и Андрей Белый в своих заметках о его поэзии.
В конце 1919 г. исполнилось 20 лет литературной деятельности Балтрушайтиса (в декабре 1899 г. состоялся его поэтический дебют — публикация стихотворения в «Журнале для всех»), и в ознаменование этого в Московском Художественном театре было устроено торжественное заседание [542]. Андрей Белый зафиксировал в этой связи (запись о событиях января 1920 г.): «Мой доклад „Поэзия Ю. Балтрушайтиса“ (на юбилее Балтрушайтиса) в „Худож<���ественном> Театре“» [543]. Заметки «Ех Deo nascimur» представляют собой, скорее всего, канву для этого устного выступления. В мемуарах Белый сообщает, что связных текстов своих лекций, полностью соответствовавших содержанию выступлений перед аудиторией, он — по мере того, как вполне овладел этим жанром — не составлял, а, используя предварительные заготовки, предавался импровизации [544]— тому неповторимому самовыражению, поражавшему его слушателей, при котором свободно льющееся звучащее слово подкреплялось энергичной жестикуляцией и многообразными ритмико-интонационными модуляциями. Соответственно и рукописный текст заметок о Балтрушайтисе — это не адекватное изложение доклада, не статья, а лишь конспект, состоящий в основном из подборки авторских тезисов, зафиксированных в лаконичной, явно предварительной форме, и монтажа цитат из двух поэтических книг Балтрушайтиса. Характерные особенности этих заметок Белого, представляющих собой по своему преобладающему составу вязь цитат, которые призваны иллюстрировать выявляемые образные лейтмотивы и демонстрировать наиболее значимые, сущностные черты целостного поэтического мира, позволяют сопоставить их с аналогичными опытами, предшествовавшими разбору поэзии Балтрушайтиса и доведенными автором до окончательного вида и до печати, — со статьями Белого «Поэзия Блока» (1917) и «Поэзия Вячеслава Иванова» (1918), вошедшими позднее в его книгу «Поэзия слова» (1922).
Хотя заметки о Балтрушайтисе, в силу своего тезисного, конспективного характера, несопоставимы с прихотливо выстроенными интерпретациями поэзии Блока и Иванова, тем не менее и из этого текста проясняется вполне определенное представление Андрея Белого о поэзии Балтрушайтиса, которую он рассматривает как внутренне цельный, единый текст, как систему поэтического мировидения, законченную и самодостаточную, осуществляемую путем последовательной «символизации всей окружающей действительности» [545]. По примеру самого Балтрушайтиса, распределившего стихотворения «Земных Ступеней» по четырем разделам, каждый из которых дает символическое отображение четырех времен года, Белый в своих характеристиках мифопоэтики Балтрушайтиса прибегает к тому же циклическому принципу: поэтический мир рассматривается в аспекте осуществления суточного цикла (утро — день — вечер — ночь). При этом главнейший субстанциональный смысл несет в себе, согласно наблюдениям и разборам Белого, образ дня («Он — поэт дня» — озаглавлена одна из тематических рубрик текста). Земля для Балтрушайтиса — «путь: не земля, а земные ступени — в день»; «Его земля — земля дневная, земля святая, как и день, который — свет <���…> свет духовный, Фаворский, сознательный, умный и Божий; такою ж живою и Божьей, духовной стоит нам земля Б<���алтрушайтиса>» [546]. И далее Белый прослеживает символические подобия-тождества в поэтическом мире Балтрушайтиса («день = жизнь, день = свет, день = разум»): «Б<���алтрушайтис> — поэт просветленья. В свет<���е> дневном для него свет мысли: свет мысленный Божий свет: день — Божья мысль»; «Отношение к миру есть сознательный гимн; поэт кладет братский поклон миру: мир — мир есть жизнь; жизнь — сознание: оттого-то сознательно, мудро, глубокое проникновение и оправдание жизни». Ночь в мифопоэтических представлениях Балтрушайтиса, какими они раскрываются Белому, — один из аспектов всеобъемлющего Дня: «…в ночи выступает ему лик внутренний Света: где „Я“ и „Свет“ — Полуночное Солнце: сознание, Бог, скрывающий свой покров пред Человеком»; «Ночь — последняя Земная Ступень : переход к Неземному Странствию» [547].
В рассуждениях о том, что поэзия Балтрушайтиса есть «путь к первой ступ<���ени> посвящения», путь к «себя сознающему центру: к „Я“ в „Я“» [548], вполне уловим антропософский подход автора. В целом же трактовки Белого принципиально не расходятся с теми, которые уже получила лирика Балтрушайтиса в русской критике; как и Вяч. Иванов, Белый проводит параллели между Балтрушайтисом и Баратынским (а также Тютчевым); подобно тому же Иванову и Ю. Айхенвальду [549], видит в молитвенном пафосе основное содержание лирических медитаций поэта: «Песни его — молитвы : стих — духовные стихи. Он — религиозный поэт» [550]. Отличает, однако, Белого от других, писавших о Балтрушайтисе, концентрированная эмфатичность утверждений и высказываний — диктовавшаяся, вероятно, «юбилейной» стилистикой, которой должен был соответствовать текст выступления. Проецируя на поэзию Балтрушайтиса евангельскую формулу «Я есмь путь, истина и жизнь», Белый провозглашает в заключительных тезисах своих заметок: «Балтрушайтис самосознающий поэт. Он — живой человек (жизнь). Оттого он — хороший человек (путь). Он — истинно-прекрасный поэт (истина). <���…> Я — истина, путь и жизнь. Оттого он Хороший Поэт» [551].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: