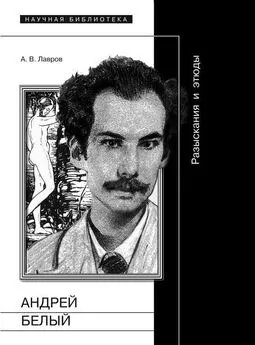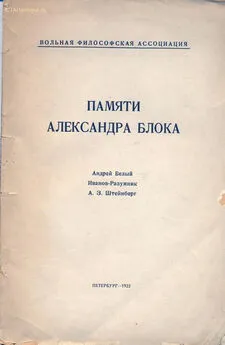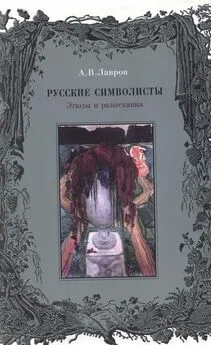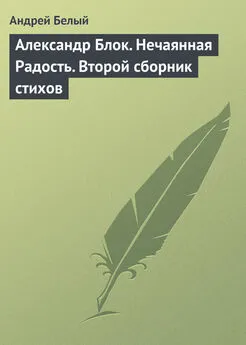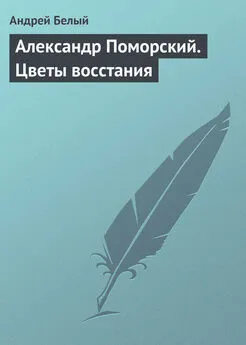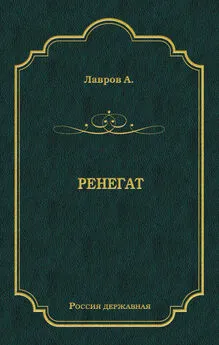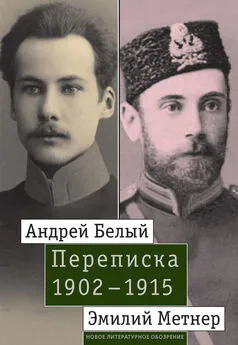Александр Лавров - Андрей Белый
- Название:Андрей Белый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-537
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лавров - Андрей Белый краткое содержание
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.
Андрей Белый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда в «Людях и положениях» Пастернак говорит о своих наиболее сильных литературных переживаниях в гимназическую пору: «Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским» (IV, 313), — то имя Белого оказывается в этом ряду на первом месте, видимо, не случайно: из всех произведений модернистов ближе всего Пастернаку могли быть только что появившиеся тогда «симфонии», с их «музыкально» преображенными картинами городской жизни, с постоянным пересечением и взаимопроникновением тем времени и вечности, сочетанием сказочно-романтической образности с ироническим воссозданием повседневного быта «профессорской» Москвы [795]. Воздействие этих произведений Белого С. Н. Дурылин почувствовал в первых литературных набросках Пастернака (лето 1910 г.): «Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, отрывки, набросанные на путаных листочках. Они казались осколками каких-то ненаписанных симфоний А. Белого, но с большей тревогой, с большей мужественностью!» [796]Преемственность своих литературных опытов по отношению к Белому признавал и сам Пастернак: «…я, вышедший в прозе из Андрея Белого и прошедший через распад форм в их крайнем выражении», — такова его автохарактеристика в письме к П. П. Сувчинскому от 14 августа 1958 г. [797]. Впервые опубликованный в 1990 г. прозаический отрывок Пастернака «Петербург», предположительно датируемый 1917–1918 гг. [798], убедительно свидетельствует, насколько значим был для начинающего прозаика, в частности, одноименный роман Белого (и позже, в «Охранной грамоте», «Петербург», «Медный всадник» и «Преступление и наказание» возникают как триединый образ, дающий цельное, исчерпывающее представление о столице Российской империи; IV, 224). Как и в «Петербурге» Белого, в незаконченном произведении Пастернака изображается фантасмагорический, «выгаллюцинированный» (IV, 472) город, а события разворачиваются в конспиративной обстановке вокруг некой боевой политической акции; как и у Белого, Петербург в трактовке Пастернака — своего рода цельный, живой организм, повелевающий героями и сам становящийся героем действия, а люди уподоблены марионеткам в «механизированной обстановке», «бессильным и непонимающим» («…они приходили в действие, словно у них кто-то заводил механизм»; «Они набегали друг на друга, механически, как заводные <���…>» — IV, 486); как и у Белого, одержимого «восточной» опасностью и различающего сквозь петербургский морок «желтолицые» видения и маньчжурские шапки, у Пастернака «рвали туман только восточные лица, отчасти лица южан» (IV, 472); подобно своему предшественнику, Пастернак актуализирует петербургские литературные мифы: в романе Белого «сызнова теперь повторялися судьбы Евгения» [799], проигрывался на иной лад сюжет «Медного всадника», — у Пастернака мотив карточной игры оборачивается «гран-пасьянсом Пиковой Дамы» (IV, 480), «повторением» судеб Германна и старухи. Пастернаковский отрывок может быть насквозь прочитан и истолкован как семинарий по Белому: эта проба «петербургской» прозы наглядно демонстрирует, что Пастернак еще даже не «вышел» из Андрея Белого, а находится всецело под магическим воздействием его поэтики.
Признававший себя «учеником» Белого — и действительно во многих отношениях сформировавшийся под его сильнейшим влиянием, — Пастернак, однако, имел и других «учителей»; прохождение «семинария» у них всех имело следствием обретение собственной творческой индивидуальности. Как известно, долгий путь Пастернака к самому себе был отмечен рядом последовательных «искусов», циклом сближений и разрывов — позднее осмысленных и истолкованных в аналитических этюдах «Охранной грамоты». «Искушение» музыкой связывалось для Пастернака прежде всего с образом Скрябина, «искушение» теоретической философией — с образом Германа Когена, «искушение» литературным авангардом — с Маяковским. В этом ряду «искусителей» Андрей Белый вправе занять свое, типологически сходное место: прохождение Пастернака через символизм, через «мусагетовские» семинарии — вместе с тем и «семинарий» у Белого. Как Маяковский в сознании Пастернака — проявление самого значительного, что принес с собой футуризм, так и Белый для него — столь же репрезентативная фигура «от символизма». В «Охранной грамоте» Белый и Маяковский, встретившиеся на литературном вечере в январе 1918 г., осмысляются как «два гениальных оправданья двух последовательно исчерпавших себя литературных течений» (IV, 231); и в цитированном выше письме к Белому от 12 ноября 1930 г., говоря о нем как о «последнем мериле первичности, виденном в жизни», Пастернак — в унисон с «Охранной грамотой» — продолжает: «И за Вами следует Маяковский, юношей, каким Вы его слышали зимой 18 года» [800]. Два этих имени для Пастернака обозначают две возможные версии собственного литературного осуществления, два опробованных пути, подвигших — наряду с другими опробованными, но не пройденными путями, — на путь иной, к обретению собственной «первичности». Как и в случаях с другими кумирами своей юности, Пастернак приближался к Белому для того, чтобы от него уйти, ничего не растратив из приобретенного: от «Мусагета» он отдалился, отверг символизм, подобно тому как раньше решил порвать с музыкальным поприщем и почти одновременно — с поприщем философским.
И на этом пути «ученических» сближений и разрывов Андрей Белый мог восприниматься Пастернаком не только как один из безусловных «учителей», соотнесение с которыми необходимо для идентификации собственной личности и ее последующего самоотрицания. В переживавшейся им ситуации духовного странствования Белый представал и еще в одной роли — как провозвестник и образец избранной линии творческого поведения, как человек, указавший на ту жизненную стезю, на которую обрекал себя Пастернак. В устремлении Пастернака «к философии» и «от философии», к неокантианству и от неокантианства Андрей Белый — живой и непосредственный прообраз.
Весь «роман с философией», с «паломничеством» к главе марбургской школы неокантианства Герману Когену для «младомусагетца» Пастернака мог скрывать и дополнительный смысл: это был поступок правоверного «ученика», опыт «подражания Белому», руководителю «Мусагета», — своеобразного эстетико-«жизнетворческого» подражания; до конца не осознанная, вероятно, попытка повторения пройденного Белым пути. (Не исключено, что именно этот миметический подтекст учитывался Пастернаком, когда он писал о Белом как о «мериле первичности».) Тяготение Пастернака «мусагетовской» поры к осмыслению символизма как религиозной системы (в тезисах «Символизм и бессмертие» (1913) постулируется: «…только как система — символизм вполне реалистичен» — I IV, 683) полностью согласуется с главным направлением теоретических усилий Белого во второй половине 1900-х гг., задачей которых было обоснование целостной философско-эстетической системы символизма. В фундамент философии символизма Белый предлагал тогда положить гносеологический метод, базированный на неокантианстве, и одно время склонен даже был видеть в методологических штудиях, в кантианской «диете» едва ли не панацею I от всех бед, угрожавших символистскому движению. В статье «Теория или старая баба» (1907), входившей в его полемический цикл «На перевале», печатавшийся в «Весах», Белый настаивал на необходимости для теоретиков искусства, озабоченных установлением содержания понятий «символ» и «символизм», отказаться от методологически ущербных эстетических построений и обратиться к логически выверенной, строгой теории познания: «…мы спрашиваем господ теоретиков-критиков, импрессионистов и анархистов мысли: нужна ли критика? <���…> Если же они ответят, что нужна, то, будь они представителями архисубъективной критики, они должны членораздельно доказать свое право. И этого достаточно, чтобы пригласить их в Марбург к Когену, Наторпу, или во Фрейбург, потому что мы хотим честных доказательств, а не Парок бабьего лепетанья ; это лепетанье прекрасно в лирике, и нам ли оспаривать его красоту?» И в заключение — повторение той же мысли, но с почти лозунговой отчетливостью: «Есть символизм Ибсена, Ницше, Мережковского, и есть теория символизма. Для изучения первого обратимся к данному нам творчеству названных художников. Для разработки второго не мешало бы чаще совершать паломничество в Марбург» [801].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: