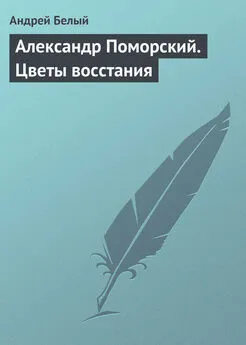Александр Лавров - Андрей Белый
- Название:Андрей Белый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-537
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лавров - Андрей Белый краткое содержание
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.
Андрей Белый - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Белый и Брюсов в равной мере восприняли эти новации как легкомысленное вторжение в недоступные постижению «мистических анархистов» области, даже как насмешку и провокацию по отношению к канонам символизма. При этом, в силу общей непродуманности и необоснованности «мистического анархизма», в силу его тяготения быть скорее стихийным настроением, чем отчетливо сформулированной концепцией, взгляды Чулкова и его идейных спутников в принципе допускали и совмещали все возможные ухищрения в духе «новой» эстетики и философии, в том числе и те положения, которые были присущи «классическому» символизму и в выработке которых принимал немалое участие Андрей Белый. «Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году», — впоследствии утверждал Белый [873], подчеркивая разницу между мистико-романтическими устремлениями, общими для него, Блока и других поэтов на рубеже веков, и их адаптацией «мистическими анархистами». Все эти принципиальные установки, безмерно усиленные внутрисимволистскими фракционными разногласиями внешнего, случайного характера, конкуренцией и инцидентами между тремя основными журналами символистов («Весами», «Золотым Руном» и «Перевалом»), а также не в последнюю очередь и личными обстоятельствами (в частности, конфликтными отношениями между Белым и Блоком и, в связи с этим, личной предрасположенностью Белого против Чулкова), обусловили беспрецедентную полемику «всех против всех» и стимулировали дифференциацию внутри символизма. В ходе полемики пресловутый «мистический анархизм» неизменно оказывался порождающим началом и даже чуть ли не синонимом для любых попыток «преодоления» или ревизии «старого», «классического» символизма, а заодно и для проявлений эпигонства и литературной эклектики [874].
Андрей Белый оказался самым активным и темпераментным «весовским» полемистом, обрушившись в 1907 г. на Чулкова и «чулковство» с исключительной запальчивостью. Сам Белый характеризовал свою позицию так: «…я, никогда не думавший стать газетчиком и более всего мечтающий написать философский трактат о символизме, видя в доме символизма пожар, — лечу на пожар с пожарной кишкою: окатывать мистико-анархический пыл струею холодной воды; так я вытянут в газету; все статьи мои того времени в „Весах“ носят газетный характер» [875]. Одна за другой появлялись статьи Белого, большей частью в «Весах», в которых он с неизменным постоянством обличал «мистический анархизм» как «провокацию», «хулиганство» и «профанацию» символизма. Поскольку «реформаторы» были в основном петербуржцами, Белый создает обобщенный сатирический образ «петербургского модерниста», кочующий у него из статьи в статью. «Петербургские мистики», утверждает Белый, повинны в вульгаризации духовных ценностей, в вынесении их на «базарное сборище», в создании из них рекламы. Изображая Петербург как некое засилье претенциозных и ложных явлений, Белый обогащал общую картину аллегориями, каламбурами, конкретными намеками и аллюзиями. Протест Белого, изначально нацеленный против «мистического анархизма», расширялся, набирал силу и реально оборачивался обличением засилья эпигонского модернизма. Эклектика «мистического анархизма» и стилевая чересполосица и вульгарность массовой модернистской продукции были для него явлениями внутренне родственными и взаимообусловленными. Объектом фельетонной критики Белого становятся гораздо более заметные, в сравнении с «мистическим анархизмом», широко проявившие себя тенденции новейшей литературы с ее «проблемой пола», «мистической эротикой» и этическим нигилизмом, тенденции к пересмотру духовных и нравственных ценностей, унаследованных от русской классики XIX в.
Статья Белого «Довольно!» принадлежит к числу его наиболее резких, ожесточенных полемических выступлений. Не подвергая сомнению «истинную» мистику (представление о которой было связано для него с поэзией Вл. Соловьева, молодого Блока и собственным ранним творчеством), Белый всю силу своего обличения обрушивает на словопрения о «мистической струе, охватившей общество», разоблачая их спекулятивность и беспочвенность. Подспудно статья была направлена против Вяч. Иванова, который своими толкованиями «дионисийства» и «соборности» подготовил — вольно или невольно — питательную почву для того «мистико-анархического» идейного брожения, которое обличал Белый.
Именно эта конкретная полемическая установка могла оказаться причиной того, что статья не увидела света. Порядковый номер статьи (XIV) и непсевдонимная подпись под текстом (Б. Бугаев) позволяют отнести ее к «весовскому» циклу статей Белого «На перевале» (который он публиковал под своим настоящим именем) и датировать 1908 годом (наиболее вероятно, второй половиной этого года) [876]. Однако к этому времени полемика вокруг «мистического анархизма» уже теряла свою актуальность, предпринимались шаги к более спокойному выяснению позиций или хотя бы к прекращению критических баталий. 30 декабря 1908 г. Белый послал Вяч. Иванову примирительное письмо [877], после которого опубликование статьи «Довольно!» могло стать причиной новых, уже совсем нежелательных личных осложнений.
Не исключено, впрочем, что статья Белого могла быть отвергнута в редакции «Весов», — скорее всего Брюсовым, который, будучи основным инспиратором разгоревшейся борьбы, дипломатически старался не допускать в ней крайностей и личных оскорбительных выпадов. Тот же Вячеслав Иванов, пытаясь склонить Брюсова к отказу от проводимой литературной тактики, указывал не раз на некорректность и чрезмерную резкость «весовских» критиков, прежде всего Белого и Эллиса [878]. К. Д. Бальмонт, следивший за журнальными перепалками из-за границы, приходил в негодование от «весовской» полемики Белого — не по ее существу, а исключительно из-за резкости тона [879]. Многочисленные протесты такого рода могли заставить Брюсова воздержаться от помещения гневной инвективы Белого, тем более в пору затухания внутрисимволистской полемики.
Как можно судить по ряду рассыпанных «актуальных» намеков, к 1908 г. относится и вторая неизданная статья Белого «Монолог № 1. Сорок тысяч курьеров» — сатирический памфлет, направленный в основном против засилья эпигонской литературы и тем самым опять же связанный с «мистико-анархической» темой. Этот «монолог Добчинского» — одно из первых проявлений «гоголевской» темы в творчестве Белого. «Самая родная, нам близкая, очаровывающая душу, и все же далекая, все еще не ясная для нас песня — песня Гоголя. И самый страшный, за сердце хватающий смех, звучащий, будто смех с погоста, и все же тревожащий нас, будто и мы мертвецы, — смех мертвеца, смех Гоголя!» — утверждал Белый в статье «Гоголь» (1909), отразившей его восторженное восприятие творчества писателя, наиболее близкого ему из всех великих писателей России [880]. Отзвуки гоголевского смеха возникли и в полемических сатирах Белого. В статье «Штемпелеванная калоша» (1907) среди прочих химер воскресает гоголевский Иван Александрович Хлестаков, который у Белого символизирует скороспелых невежественных теоретиков (все тех же мистических анархистов), ищущих у невзыскательной публики дешевой популярности: «А вот поедет какой-нибудь из Иванов Александровичей в провинцию читать рефераты и рассказывать о своих полетах по воздуху над бездной, право даже приятно так станет, в жар и в холод бросит. Они ему: „Ах, ах, ах!“ Он им: „Я… я… я…!“» [881]. В октябре 1907 г. герой «Ревизора» вновь воплотился под пером Белого — на этот раз в прозаическом этюде под заглавием «Иван Александрович Хлестаков». Изображая в нем столицу Российской империи как «вечное марево», фантасмагорию, Белый населяет ее гоголевскими персонажами; ими заполонен и петербургский литературный мир: Хлестаков и Чичиков, эти неумирающие комические фантомы, теперь «часто делят столы в переполненных департаментах — министерских и литературных»; «Туман закутал улицы, прилипает тенью к людям. Тень вползает в дома, выпивает живую душу — и перед нами, словно прямо осевший из тумана на Невский, Иван Александрович Хлестаков, с портфелем в руке, бежит к своему теневому столу» [882].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: