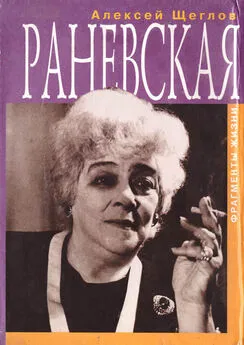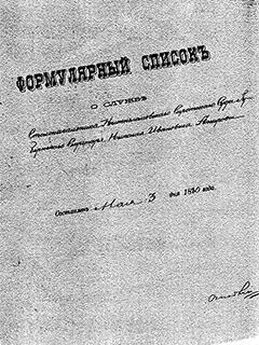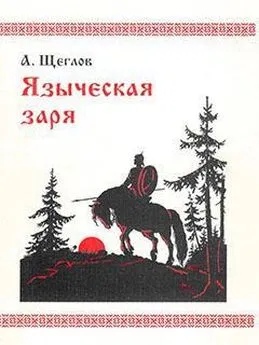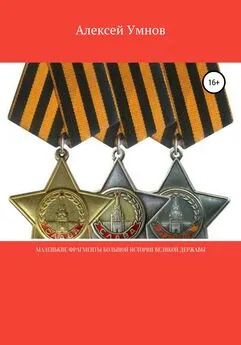Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни
- Название:Раневская. Фрагменты жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0004-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Щеглов - Раневская. Фрагменты жизни краткое содержание
Фаина Раневская (1896–1984) провела на сцене почти семьдесят лет. Столько же она пробыла членом семьи Вульфов после эмиграции ее родителей в 1917 году. Новую семью Раневская нашла в доме своей наставницы актрисы Павлы Леонтьевны, ее дочери Ирины, тоже актрисы и режиссера, и родившегося в 1939 году Алексея Щеглова, сына Ирины которого Раневская называла «эрзац-внуком», а он ее — «Фуфой». Недавно, когда отмечалось 100-летие Раневской, вся Москва зачитывалась маленькой мемуарной книжкой Алексея Щеглова о Фаине Георгиевне. Автор — не литератор, а профессор архитектуры. Может быть еще и поэтому в рукописи содержится минимум «размышлизмов», но максимум — прямой речи Фаины Георгиевны, записей из ее дневников, писем, черновых набросков и других «первичных материалов».
Жизнь ее была долгой. С проблесками счастья. С годами уныния, десятилетиями тоски, одиночества. Ей было неуютно в собственном теле, и ощущенной Богом судьбе. Она не боролась — жила. Трагедия несовпадения, переживаемая ежесекундно, создала феномен, именуемый — Раневская. Она говорила: «У меня хватило ума глупо прожить жизнь». Великая, мужественная глупость — не идти на сближение с чуждым миром. Дети кричали ей вслед: «Муля, не нервируй меня!». Она отгоняла их, бранилась. Друзья — один за другим — уходили в небытие. Оставались фотографии. Постылое: «Муля!..» слышалось со всех сторон. Ее любили зрители. Но не любило время. Откусывало по кусочку от пространства вокруг. Пока не подобралось вплотную.
Раневская. Фрагменты жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Я очень любила Тимошу — она была прелестна и много моложе меня… Тимоша часто оставляла меня, не отпускала, ждала, пока все уйдут, чтобы поговорить».
Среди записей этих разговоров есть и такие:
«У души жопы нет, она высраться не может», — сказал Горькому Шаляпин, которого мучила невозможность освободиться от переполнявших его душу чувств, когда ему сунули валерьяну перед выходом на сцену.
Сам Горький шутил о своих знакомых и домочадцах: «20 жоп кормлю».
«Весь день лежала в тоске отчаянной. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой — 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, Всеволод Иванов, художники, музейщики и сама вдова, маленькая старушка. Андреева в параличе. У Пешковых в доме любят Андрееву, а „законную“ терпят и явно не любят. Я люблю бывать в этом доме, люблю Горького.
Похвалила Федина за последний роман, он был рад по-детски. И засиял глазами — у него породистое, красивое лицо».
В 1976 году Раневская сделала приписку: «Он сволочь».
Давняя дружба связывала Раневскую с Михоэлсом.
Вспоминая ужин в гостинице в Киеве, Фаина Георгиевна писала:
«В „Континентале“ — Соломон Михайлович, Корнейчук и я. Ужин затянулся до рассвета. Я любуюсь Михоэлсом, он шутит, смешит, но вдруг делается печальным. Я испытываю чувство влюбленной, я не отрываю глаз от его чудесного лица. Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михоэлс расплачивается и дарит подавальщице 100 руб. — в то время, перед войной, большие деньги. Я с удивлением смотрю на Соломона Михайловича, и он шепчет, наклонившись ко мне: „Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший“. Я говорю: „Боже мой, как я люблю вас“.»
В конце войны, в 1944 году, Михоэлс во главе Еврейского антифашистского комитета вернулся из поездки в Америку. Раневская пришла к нему домой, в его комнату с вечно гудящим за стеной лифтом.
«Он лежал в постели, больной, и рассказывал мне ужасы из „Черной книги“; он страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, не рассказанных Данте, я спросила: „Что вы привезли из Америки?“ Соломон Михайлович усмехнулся: „Мышей белых жене для работы, а себе… мою старую кепку“. Мой дорогой, мой неповторимый».
В составе Комитета по Сталинским премиям Михоэлс был на спектакле Московского театра драмы «Капитан Костров», выдвинутом на Сталинскую премию, в котором играла Раневская. Для этой роли Раневская научилась играть на аккордеоне. Я помню, как повторяла Фаина Георгиевна дома свою частушку, которую она сама нашла и пела в этом спектакле, аккомпанируя себе на аккордеоне: «Ну-ка встану, погляжу, хорошо ли я лежу!» Не знаю, получила ли Фаина Георгиевна одну из своих Сталинских премий именно за этот спектакль, но вспоминала об этом она так:
«Играю скверно, смотрит комитет по Сталинской премии. Отвратительное ощущение экзамена. После спектакля дома терзаюсь. В два часа ночи звонок телефона: „Дорогая, простите, что так поздно звоню, но ведь вы не спите, вы себя мучаете. Ей-богу, вы хорошо играли, спите, перестаньте мучаться. Вы хорошо играли и всем понравились“. Это была неправда. Но кто, кроме Михоэлса, мог так поступить? Никто, никто не мог пожалеть так».
Вскоре Фаина Георгиевна написала Михоэлсу письмо с просьбой о помощи ее другу — Елене Сергеевне Булгаковой, вдове Михаила Афанасьевича. В этом письме есть такие строчки:
«Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков».
Раневская написала, узнав, что Елене Сергеевне, вдове опального писателя, получавшей пенсию в 12 рублей, не выдавали полагавшиеся всем пенсионерам соль и спички.
Фаина Георгиевна вспоминала:
«Елену Сергеевну Булгакову хорошо знала. Она сделала все, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказала, что Булгаков ночью плакал, говоря ей: „Почему меня не печатают, ведь я талантливый, Леночка“. Помню, услышав это, я заплакала».
Неподалеку от нашего дома на Герцена находился Дом литераторов — считается, что эта городская усадьба послужила Льву Толстому прототипом дома Ростовых в романе «Война и мир». Здесь с Фаиной Георгиевной и бабушкой мы иногда гуляли в полукруглом дворике, а вечером ходили в Дом кино, расположенный напротив. Теперь там Театр киноактера, который Фаина Георгиевна с ненавистью называла «Рога и копыта», имея в виду хаос, или, как она любила говорить, «бедлам», царивший в подобных учреждениях.
В 1945 году Раневская повела бабушку и меня в этот Дом кино на мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Это был трофейный фильм, которых после войны было много. В титрах перед этими фильмами всегда было написано: «Этот фильм взят в качестве трофея после войны с немецко-фашистскими захватчиками». Раневской очень нравился диснеевский «Бэмби», а когда шла военная кинохроника, где показывали убитых и раненых, она закрывала мне рукой глаза — хотела таким образом уберечь от зла пятилетнего мальчика.
Всю жизнь в быту нас преследовал железный эмалированный зеленый таз огромных размеров, заменявший всем ванну. Горячей воды не было, воду грели на электроплитке, наливали ее из чайника в таз. Он был с круглым дном, неустойчивый, гремел и постоянно опрокидывался. Я его ненавидел. А ташкентское сюзане — настенный ковер, приехавший с нами в Москву, в конце концов полюбил, так и не разгадав смысла его орнамента.
В этой же комнате, где висело сюзане, принимали Анну Андреевну Ахматову, для которой Фаина Георгиевна просила меня, уже подросшего, читать ахматовское:
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
………………………
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?
Мне не было страшно, но я подчинялся требованию Раневской впадать во власть стихов Анны Андреевны и начинал бояться темноты и образа сыча в другой комнате.
Анну Андреевну после Ташкента я видел только на улице Герцена, в моем раннем детстве, но ее образ остался в памяти. Я благодарен Фаине Георгиевне за то, что видел Ахматову, забыть которую невозможно.
Когда я спрашивал Фаину Георгиевну о Гумилеве, Мейерхольде, Мандельштаме, Блюхере, о судьбе исчезнувших людей, многих из которых она знала, Фаина Георгиевна молча складывала руку в кулак так, будто сжимала револьвер, и большим пальцем беззвучно производила воображаемый выстрел. Я хорошо помню этот жест, ее выразительный взгляд и безмолвное — чтобы никто не услышал? — объяснение.
Случилась бы еще одна непоправимая трагедия, если бы и она попала под сталинский каток. А Сталин знал ее и говорил (она рассказывала это со слов Эйзенштейна): «Вот Жаров в разном гриме, разных ролях — и везде одинаков; а Раневская без грима, но везде разная».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: