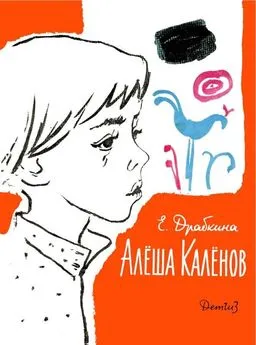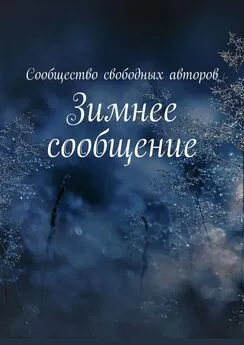Елизавета Драбкина - Зимний перевал
- Название:Зимний перевал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство политической литературы
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-250-00715-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елизавета Драбкина - Зимний перевал краткое содержание
Эта книга — о тех годах, которые, по словам автора, «называют годами перехода к новой экономической политике и которые являются последними годами жизни Владимира Ильича Ленина». Написанная в 60-е годы, до читателя она дошла только в конце 80-х и получила его признание за глубину и честность освещения политических, экономических, нравственных проблем.
Второе издание книги значительно дополнено за счет новых материалов, обнаруженных в личном архиве писательницы.
Адресована широкому кругу читателей.
Зимний перевал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Только у мужиков-то крошки были аржаные, а у грэффасс сдобные, — со злобным наслаждением заканчивал рассказчик.
Вот и сейчас, в эту великую ночь, он вылез со своим рассказом о крошках. Но его не захотели слушать и прервали возгласами: «Ладно!», «Хватит!»
Было бы, конечно, заманчиво узнать, как он вел себя в бою. Но я этого не знаю. Не знаю и того, какова была его дальнейшая судьба.
Вот только разве это: несколько лет спустя в каком-то журнале — если мне не изменяет память, это была «Красная нива» — появился очерк журналиста, посетившего Ясную Поляну.
В числе другого прочего этот журналист описывал свою встречу с яснополянским крестьянином, который знал Толстого, косил рядом с ним на покосах.
А дальше слово в слово следовал рассказ об этих поганых крошках.
Один за другим рассказывали люди свою жизнь. У большинства она была бесхитростно-проста: вырос в деревне, взяли в солдаты, потом война, революция, пошел в большевики, записался в Красную Армию. Но вдруг оказывалось, что какой-нибудь ничем не выделяющийся красноармеец во время первой империалистической войны был отправлен с русским экспедиционным корпусом во Францию, сражался под Верденом, после революции с другими русскими солдатами потребовал возвращения на родину, был брошен как «бунтовщик» в военную тюрьму и отправлен в концентрационный лагерь где-то в Северной Африке, бежал, прятался в листьях пальм, добрался до Александрии, залез в трюм стоявшего на рейде парохода, зарылся в уголь, шесть суток не пил, не ел, был бы нож, кажется, отрезал бы ногу и съел, доехал до Одессы, был приговорен деникинцами к смертной казни, снова бежал, перешел фронт, вступил в Красную Армию, отправился на польский фронт, оттуда попал в госпиталь — и под Кронштадт.
Вот вышел Горячев. Рядовой солдат царской армии, он за участие в Свеаборгском восстании был осужден на восемь лет каторги, там встретился с политическими, стал большевиком, по окончании срока каторги бежал с поселения в Америку, работал на заводах Форда в Детройте, после революции вернулся в Россию, поступил на Сестрорецкий завод, ушел в Красную гвардию, воевал с Колчаком, Деникиным, с польскими панами…
Вот заговорил Леня Сыркин — делегат Десятого съезда партии, направленный в нашу часть. Большие глаза его блестят, вязкий желтый свет фонаря падает на взвихренные волосы.
— Я не хочу больше обманывать, сегодня я должен сказать правду… — неожиданно начинает он.
Какой обман? Какая правда?
Оказывается, три года тому назад, когда во время германского наступления на Петроград Леня Сыркин записывался в Красную Армию, он прибавил себе годы и вместо пятнадцати лет назвал восемнадцать, боясь, что иначе его не возьмут.
Едва вступив в ряды Красной Армии, Леня был избран председателем ротного комитета. Вместе с частями Красной Армии прошел боевой путь от берегов реки Вятки до берегов Байкала. В семнадцать лет был начальником политического отдела 30-й стрелковой дивизии, а затем — помощником начальника политотдела 4-й армии. Во время разгрома Врангеля вместе с 30-й дивизией штурмовал Перекоп и ворвался в Крым. От 4-й армии был избран на Десятый съезд партии, а со съезда отправился под Кронштадт.
Но все эти годы его томил тот «обман», который он совершил во время вступления в Красную Армию, а потом и в партию. И сейчас, охваченный торжественностью минуты, он решил рассказать об этом «обмане» товарищам.
Вот подошла очередь Флегонтыча.
В двух словах он описал свою крестьянско-солдатскую жизнь и хотел тут же сесть, но собрание загудело:
— Ты кто как пьян бывает скажи…
— Да вы что? Ошалели? — сердито спросил Флегонтыч.
Но собрание добродушно смеялось и настаивало. Флегонтыч отказывался и дал согласие только когда сам Горячев попросил его «уважить товарищей».
Про то, «кто как пьян бывает», Флегонтыч рассказывал лишь в особых случаях, да и то после долгих упрашиваний. Знал он об этом досконально, пожалуй, не хуже самого Даля.
— Пьяны, значит, бывают так, — начинал он. — Сапожник, когда пьян, — накаблучился, портной — наутюжился, столяр — настукался, музыкант — наканифолился, купец — начокался, приказчик — нахлестался, лакей — нализался, барин — налимонился, а солдат… — Тут голос Флегонтыча звучал торжественно, даже патетически. — Солдат — употребил!..
— Ста-но-вись!
Мы выстроились во дворе при свете железнодорожного фонаря, светившего в одну сторону желтым, в другую — зеленым, в третью — красным светом. Горячев прочитал боевой приказ Командарма-7 Тухачевского:
«В ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта стремительным штурмом овладеть крепостью Кронштадт…»
Общий замысел нашего командования состоял в нанесении удара с юга и стремительном захвате Кронштадта путем атаки с трех сторон.
При этом Южная группа войск выступала двумя колоннами прямо на Кронштадт и, пройдя семь верст по льду, должна была взять крепость приступом, со стороны Петербургских ворот, а Северная группа должна была повести удар с Лисьего Носа на северо-восточную часть острова Котлин, занять форты северного фарватера залива и вместе с тем отвлечь на себя значительную часть сил противника.
Важнейшим фактором победы была внезапность нападения. Сближение с неприятелем приказано совершить в предельно сжатые сроки. Войскам идти со скоростью пять верст в час.
Но они шли быстрее.
Было около двух часов пополуночи, когда наша часть выступила к назначенному ей исходному рубежу у кромки льда залива.
Артиллерийская перестрелка к этому времени замолкла. С запада дул сильный ветер. Спустился плотный, густо-белый туман, клубившийся голубым, когда сквозь него пробивались лучи кронштадтских прожекторов. Спасательная станция продолжала гореть, озаряя берег и лед летучим огненным светом.
Впереди колонн шли созданные по приказу командования штурмовые отряды. Их задачей было устранять препятствия на пути штурмующих колонн — перебрасывать мосты через воду и проруби и преодолевать проволочные заграждения и стены крепости.
За ними двигались остальные красноармейцы, а в интервалах — розвальни с санитарами и перевязочным материалом.
Ездовым у меня был Флегонтыч, а в розвальни впряжен был глупый, добрый, старый конь Спотыка. У него были опухшие больные ноги, покрытые незаживающими ранами. Ступал он плохо, часто спотыкался, за что и заслужил свое незавидное имя.
В других розвальнях были сложены еловые вехи, которыми колонны отмечали свой путь по льду.
Пулеметы и патроны везли на ручных санках.
К тому времени, когда мы подошли к берегу, прошло уже более часа с тех пор, как первая колонна вышла на лед и растворилась в тумане. Впереди было тихо. Что крылось за этой тишиной?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
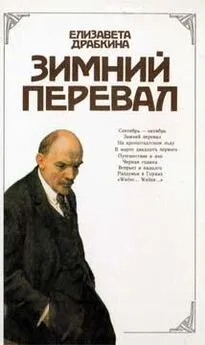
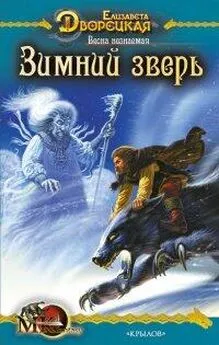
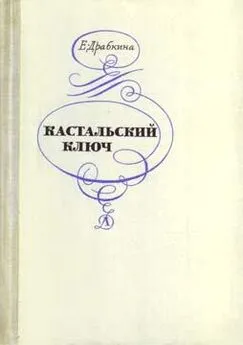
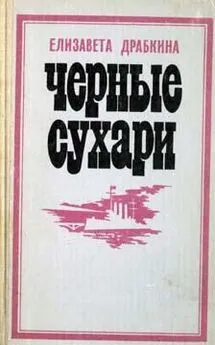
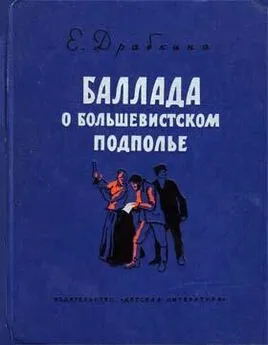
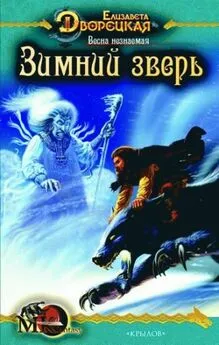
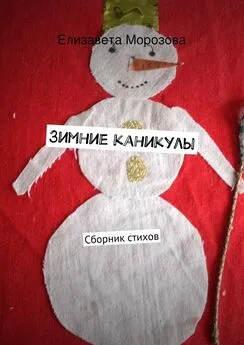

![Елизавета Драбкина - История одного карандаша [Рассказы]](/books/1099920/elizaveta-drabkina-istoriya-odnogo-karandasha-rassk.webp)